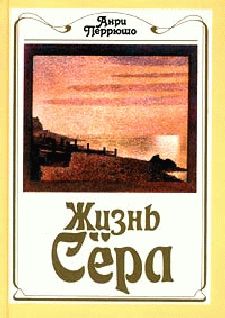Анри Перрюшо - Жизнь Сезанна
С приходом в дом Золя прекрасной Габриэли на плечи писателя ложится еще большее бремя. Покинув улицу Вожирар, он переезжает в Батиньоль, в квартал Мане. Вопреки своей прекрасной позе борца он порою, так же как и Сезанн, падает духом. «Вы не поверите, – не сдержавшись, признается он однажды Нума Косту, – на какие неожиданности натыкаешься в этом трудном изнурительном ремесле, каким я занимаюсь». Редкий из четвергов проходит без жалоб с его стороны на тяжелые времена: «Ничего не идет»[73]. Тиражи приносят ему весьма незначительные суммы: «Исповедь Клода» была напечатана всего лишь в полутора тысячах экземпляров. Чтобы прожить, ему приходится шире сотрудничать в газетах, заниматься литературной поденщиной. Не прекращая писать новый роман «Брак по любви», он катает по два су за строчку для провинциального листка «Ле Мессаже де Прованс» приключенческий роман с продолжением «Марсельские тайны». Катает не без скуки и отвращения. Но зато ему по крайней мере удается свести концы с концами. К тому же он надеется в сотрудничестве с Мариусом Ру переделать «Тайны» для театра. Валабрег упрекает Золя: писать такие романы – значит торговать своим талантом. На что Золя отвечает: «Мне в настоящее время необходимы две вещи – печататься и зарабатывать деньги. В отношении „Марсельских тайн“, так и быть, сдаюсь. В остальном же я знаю, что делаю». В то же время Валабрег не преминул похвалить Золя за то, что своим энергичным заступничеством он очень помог Сезанну. «Поль – не знающее жизни дитя, чьим хранителем и наставником вы являетесь, – пишет он Золя. – Вы оберегаете его, шагая бок о бок с вами, он уверен в своей безопасности… Его удел создавать картины, а ваш – устраивать его жизнь!»
Не потому ли, что это действительно так, и, даже по мнению самого Сезанна, художник время от времени ходит работать к своему другу в Батиньоль? В частности, он пишет там большую картину «Похищение» – смуглый мужчина держит в объятиях бледную, лишившуюся чувств женщину. Это исполненное хищной чувственности полотно Сезанн дарит Золя. Он проставил под ним подпись и дату – явное свидетельство того, что оно ему самому до какой-то степени нравится. Достаточно взглянуть на эту картину, чтобы убедиться в том, что Сезанн еще далеко не свободен от романтизма. «Поль много работает, – пишет Золя Валабрегу, – он мечтает об огромных полотнах». Алчным взглядом окидывает Сезанн стены церквей, вокзалов, рынков, голые стены, которые он жаждет покрыть исполинскими фресками. «Что можно тут сделать! Покорить толпу, открыть новую эру, создать искусство!» Но живопись, проклятая живопись, «ради которой я готов убить мать и отца, не дается мне в руки». Живопись приводит его в смятение: восторг, разочарование, гневные вспышки поочередно овладевают им перед полотном, которое получается не так, как он хочет. Проклятия, сломанные кисти, искромсанные полотна – и так что ни день. Он пишет как одержимый; бешеный, сварливый, злой, он изводит себя работой, а натурщиков нескончаемым позированием и своей требовательностью, «он отпускает их только тогда, когда, полумертвые от усталости, они валятся без чувств», а сам пишет до тех пор, пока «не падает», потому что у него «подкашиваются ноги и пусто в желудке». Временами, однако, он не может сдержать острой радости. «Когда я принимаю у самого себя картину, – восклицает он в пароксизме гордости, – то это посерьезнее, чем если бы ее судили все жюри на свете!»[74].
В конце мая в Париж приезжает г-жа Сезанн, а в июне, как раз в те дни, когда Валабрег, покинув Прованс, окончательно перебирается в Париж, Поль отвозит ее домой: благодаря горячей рекомендации Золя Валабрег в скором времени начнет работать в «Л’Артист» Арсена Уссей.
* * *Как писал незадолго до того Золя Валабрегу, «Сезанну теперь нужны работа и мужество»; он рассчитывает провести в Эксе три недели «в глуши уединения» и действительно, едва приехав в Экс, укрывается в Жа де Буффане. Кроме Мариона, а иногда, крайне редко, Алексиса, летом 1867 года он ни с кем не видится. Все его друзья в Париже. Он пишет. Пишет не покладая рук. Начал несколько портретов, «поистине прекрасных, – дает оценку Марион, – теперь уже не шпателем, но все так же смело, причем технически гораздо более искусно и любопытно». Восхищение Мариона Сезанном все растет. Ввиду того, что Сезанн, продолжая свои искания, пишет акварелью, Марион удивляется тому, как удается его другу подобным способом прийти к столь замечательным результатам. «Сезанновская акварель, – пишет Марион Морштатту, – такого невиданного цвета и такой необычайной силы, каких, казалось мне, нельзя ждать от акварели».
Но что поистине поражает – это преклонение, с которым Марион относится к Сезанну.
Догадывается ли о том Сезанн? Если не считать Писсарро, всегда пристально следившего за творческим развитием Сезанна, именно Марион, этот юный геолог двадцати одного года, этот молодой ученый, только что опубликовавший два замечательных исследования, только он понимает глубокий смысл усилий Сезанна. В Париже, даже – увы! – среди друзей, Сезанн зачастую чувствует себя одиноким и чужим. Порой, в минуты усталости, у него появляется искушение отступить. К чему упорствовать, жить в постоянной бесплодной борьбе? Хорошо ему тут, в Жа де Буффане, среди мертвящего оцепенения провансальского лета, в тиши солнечного, по-настоящему знойного юга, нарушаемой лишь стрекотом цикад. Хорошо ему наедине со своим творчеством, со своими грезами, вдали от людского суетного шума. Отказаться от всего, остаться здесь, погрузиться в блаженное бездействие – это ли не мудрость? «Он может себе это позволить», – как говорит мать. Он свободен. Он бы писал. Для себя. Только для себя. Как стрекочут цикады…
Середина августа; уже месяц, как Золя не имеет вестей от Сезанна. Золя просит Мариуса Ру, который в это время в Марселе сражается с дирекцией местного театра Жимназ, готовящего к постановке пьесу по роману Золя «Марсельские тайны», посетить Сезанна. Мариусу Ру встреча эта приносит разочарование. Сезанн принимает его по-дружески, охотно болтает с ним, но не выдает ни одной из своих сокровенных мыслей, чем приводит гостя в полное замешательство. Сезанн отделывается одними банальностями или же настолько туманными словами, что их скрытый смысл, если только таковой в них имеется, Мариус Ру, по его собственному признанию, не в состоянии уловить. «Поль для меня – настоящий сфинкс», – пишет он совершенно озадаченный.
С Марионом Сезанн, очевидно, гораздо откровеннее. По мнению Мариона, Сезанн явно делает с каждым днем все большие и большие успехи. Сейчас художник работает над вторым вариантом картины «Увертюра к „Тангейзеру“», которую на сей раз решает в очень светлой тональности. Окончательно покоренный, Марион пишет Морштатту: «Одного такого полотна достаточно, чтобы создать имя».