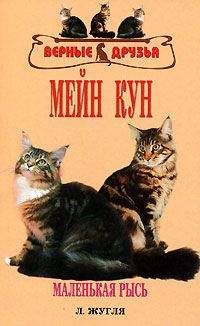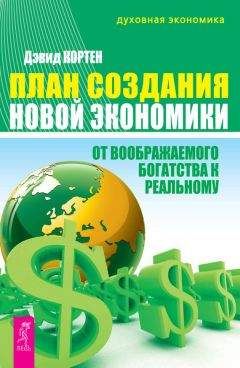Генрих Сечкин - На грани отчаяния
- Ну вот, не успеешь выйти на минуту, как тут погром учиняют, - беззлобно проговорил вошедший мужчина. - Что тут у вас происходит?
- Да вот, пока вел сюда гаденыша, он меня обокрал. Рюкзак порезал, - жаловался Ерошкин.
- Я начальник колонии Владимир Николаевич Пушкин. С поэтом ничего общего не имею. Однофамилец. Показывай, что украл у сопровождающего!
Я похлопал себя по раздутому животу.
- Еду, что ли? Так ты что, пацана голодом морил? - обратился он к Ерошкину.
- Да врет гаденыш все. Жрал всю дорогу, да видно, мало показалось! - смутился Ерошкин.
Владимир Николаевич внимательно посмотрел на него, потом перевел взгляд на меня.
- Подавай сюда свою сопроводительную. Я напишу, что ты мародер. Получишь взыскание по месту службы, - обратился он к Ерошкину. - А ты, пацан, грамотный? Заполняй быстрее анкету, а то скоро завтрак будет. Место-то в животе осталось? - улыбнулся он…
- Новенького подогнали! - раздался голос при моем появлении в комнате. - Ты кто? - подошли ко мне развинченной, вихляющей походкой два парня лет шестнадцати. Один из них был плотного телосложения, среднего роста, из тех, кто постоянно крутится на турниках и выжимает двухпудовые гири. Второй - худой и длинный.
- Человек, - ответил я.
- Ты что, нормального разговора не понимаешь? Тебя спрашивают, ты вор или «сука»? - презрительно скривив губы, спросил худой.
- Вор.
- А у нас «сучья» колония! - обрадовался худой. - Комсомольцы! Будешь заявление в комсомол подавать? Я рекомендацию дам. Да и Санек тоже.
- Конечно дам, Мотыль! -тупо заулыбался плотный.
- Пошел ты!… - не сдержался я.
- Смотри, Санек, какой грубиян! Ну, мы тебя быстро приучим к вежливому обращению. Ну-ка, детки, преподайте первый урок босоте! - еще больше развеселился Мотыль.
Четверо парней, сидевшие на своих постелях и с интересом наблюдавшие за нашим разговором, поднялись и, подойдя вплотную, окружили меня.
- Ну что, повторять придется? - вновь спросил Мотыль.
Я промолчал.
- Да он не понимает! - взъерошился Санек и коротким профессиональным ударом в солнечное сплетение сбил меня с ног. Скрючившись на полу, я задохнулся от боли. И в то же мгновение получил сильный удар ногой в подбородок. Изо рта хлынула кровь. Удары посыпались со всех сторон.
- Тумбочку давайте! - хихикал Мотыль.
Уворачиваясь от ударов, я судорожно искал пальцами в отвороте валенка заветный кусочек бритвы. Наконец нащупав и вытащив его, я из последних сил приподнялся, вырвался из клубка озверелых парней и, подскочив к стоящему в стороне, ухмыляющемуся Мотылю, со всей мочи полоснул его бритвой по глазам. Раздался дикий вой. Схватившись руками за лицо, Мотыль залился кровью и упал на постель. Остальные отпрянули в стороны.
- Еще есть желающие? - зло прошипел я.
Желающих не оказалось. Все окружили Мотыля и наперебой предлагали ему свою помощь. Глаза его оказались целы. Он успел закрыть их. Кусочек бритвы был слишком маленьким и прорезал только веки и переносицу. Но кровища хлестала нормально. Мотыля повели в ванную комнату. Я тоже направился туда же и стал разглядывать в зеркало свою изрядно подпорченную физиономию. Пока я смывал кровь, со всех сторон сбежались воспитатели. Их попытки найти у меня бритву ни к чему не привели. Я заявил, что выбросил ее в окно. Нас с Мотылем повели в медпункт, по дороге читая лекции о вреде такого рода взаимоотношений.
Врач залепил меня со всех сторон пластырем, а на левую руку наложил шину, так как выяснилось, что у меня закрытый перелом. Еще он назначил рентген внутренностей, но для этого надо было везти меня в областную больницу, что оказалось очень хлопотным делом, и эту процедуру отложили до следующего раза. Я нисколько не сомневался, что следующий раз наступит сегодня ночью. Было понятно, почему воспитатели не посадили меня в изолятор. Они ждали эффективного воздействия от метода группового прессинга. Не думалось, что у них что-либо получится.
Вечером после отбоя, всячески изощряясь, чтобы не уснуть, я лежал в постели, сжимая в пальцах свое маленькое оружие. Каждый шорох заставлял меня настораживаться. Мне было абсолютно ясно, что со всеми шестерками, окружающими Мотыля, справиться будет невозможно. Да и со всей колонией не повоюешь. Но я твердо решил не ронять себя в собственных глазах и отдать свою независимость подороже.
Ночью послышался осторожный скрип кровати. В свете луны показался Санек с веревкой в руках. Остальные тоже подняли головы и настороженно ждали. Санек крался к моей постели. Я тихо поджал ноги и напружинился. В тот момент, когда он приблизился ко мне, я что было силы пнул его ногами в грудь. Санек отлетел к стене и растянулся на полу. Не давая опомниться, я выпрыгнул из постели и, подскочив к Саньку, яростно впился зубами в его нос. Мощный рев потряс комнату.
Обалдевший от боли, он совершенно не сопротивлялся. Я пилил зубами, стараясь откусить нос напрочь. Но множество рук подскочивших воспитанников оторвали меня от Санька, вместе с кончиком его носа. Силы были неравны. Предварительно опустошенная тумбочка уже стояла рядом. Вторично сломав левую руку и сложив почти пополам, меня запихали внутрь. Дверца тут же была закрыта на висячий замочек. Я и раньше много слышал о применяемой в колониях для несовершеннолетних экзекуции под названием «тумбочка», но сам попал в такую ситуацию впервые. Тумбочку со мной вынесли на лестничную площадку и, раскачав, бросили на лестницу. Кувыркаясь, она покатилась по ступенькам вниз.
Очнулся я в областной больнице. Проведя курс лечения, меня отправили обратно в эту же колонию, в которой я провел около года с приключениями, мало отличающимися от предыдущих. Администрации наконец стало ясно, что бытующие у них методы воспитания явно недостаточны для моего успешного исправления, а посему из Москвы в Воронеж был срочно вызван отец и я был передан ему на поруки…
Бедный мой многострадальный отец! Будучи инженером, он принадлежал к тому поколению интеллигенции, для которого честь была превыше всего. Отец рассказывал, что в жизни совершил всего лишь один нечестный поступок, когда, будучи девятилетним мальчонкой, собрал на пятачок металлолома и сдал его, купив на эти деньги пряников. Тогда родители посадили его в подвал на хлеб и воду, где он в темноте и одиночестве просидел две недели, запомнив свой поступок на всю жизнь.
Отцу было сорок пять, когда мать родила ему сына. Я был долгожданным и единственным ребенком. Всю силу своей любви родители обрушили на меня. Отец с гордостью говорил всем, что когда я вырасту, то обязательно стану инженером. В то время эта профессия была одной из самых престижных. Жили мы довольно скромно, несмотря на приличную зарплату отца. Большую часть заработка он тратил на реализацию своих научных разработок. Получив в тридцать девятом году премию за крупное изобретение в размере пятидесяти тысяч рублей (сумасшедшие по тем временам деньги), он купил мне детскую педальную машину, себе - велосипед, маме - новое красивое платье, а все остальные деньги пожертвовал в «народное хозяйство». Сам же всю жизнь имел один-единственный выходной костюм, который надевал по праздникам, а меня учил обходить булыжную мостовую вокруг, чтобы не так сильно изнашивались ботинки. Нашу просторную трехкомнатную квартиру в центре Москвы он превратил в коммуналку, оставив нам только одну комнату. Раздарив остальные, отец заявил, что неприлично занимать такую площадь, когда множество людей проживает в бараках и подвалах.