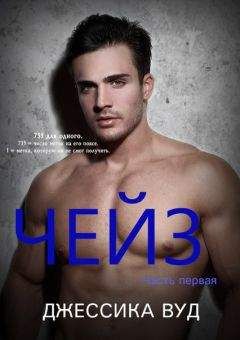Михаил Козаков - Актерская книга
— Так точно, узнал! Здравия желаю, товарищ Великий Вождь, товарищ Сталин!
Позвонили.
Софья Абрамовна сама открыть не успела, так как с трудом наконец уснула под утро, приняв снотворное. В квартире жили еще некий студент и чокнутая соседка, которая смертельно боялась краж и держала при себе овчарку.
— Кто там?!
— Открывайте, Нина Ивановна, свои.
Облаченная в ночной халат, она открыла дверь, осторожно держа собаку на поводке, и увидала гостей. Тупо смотрела, не здороваясь, секунду-другую, — и, ни слова не сказав, дернула в свою комнату, таща за собой овчарку.
На следующий день рассказывала во дворе:
— Этот грузин Кавтарадзе совсем с ума сошел: приходит ночью пьяный, а перед собой держит портрет Сталина…
(Впрочем, наутро во дворе уже знали про ночной визит. Двор был оцеплен, и детей даже не пустили в школу, чему они были, как все нормальные дети, несказанно рады. Об этом много лет спустя мне рассказала моя приятельница Зина Попова, жившая со своей мамой Марией Поповой, пулеметчицей легендарного Чапаева, в том же доме и запомнившая беспрецедентный случай из истории их двора.)
Кавтарадзе будил Софью Абрамовну:
— Софочка, вставай! К нам Сталин в гости пришел!
— Сережа, ты пьян… Голубчик мой! Где ты был?
— Софочка, я не пьян, то есть я выпил, но это неважно. Вставай, у нас Сталин!
Сели за стол втроем: хозяева и дорогой гость. Полковник, сопровождавший Сталина, бдительно торчал в коридоре. И как Сергей Иванович ни уговаривал его в течение всего вечера, точнее, утра, примкнуть к трапезе, он упорно отказывался, а на очередное настойчивое предложение хозяина наконец отрезал:
— Товарищ Кавтарадзе! Я свое место знаю!
Софье Абрамовне недолго пришлось извиняться за скудость стола. Через полчаса, а может, и того раньше, мальчики из охраны притащили горячие шашлыки, лобио, сациви и прочую снедь, очевидно, из находившегося рядом «Арагви», — хотя один Бог знает, кто и когда смог ее приготовить в пять утра.
Как водится, Кавтарадзе, исполнявший у себя в доме обязанности тамады, поднял первый тост за гостя. Выпили. Поцеловались. Преломили хлеб. Потом — за хозяйку. Сталин, приняв «аллаверды», говорил о женах, которые умеют делить с мужьями их нелегкую жизнь и быть верными при всех обстоятельствах. Потом обнял Софью Абрамовну за плечи и сказал, тяжело вздохнув: «Намучилась, бедненькая». Еще выпили. Опять за Сталина, за Грузию, за молодость. Вспоминали. Пили. Смеялись. Снова пили. Снова грустили о молодости. И опять пили. Проснулась дочка Сергея Ивановича Майка, и ее усадили за стол, выпили и за нее тоже. Сталин поцеловал Майку:
— Это ты и есть пионерка Майя Кавтарадзе?
Через день семья Сергея Ивановича переехала в стометровую квартиру на Фрунзенской набережной. Вскоре Кавтарадзе стал замминистра иностранных дел. Министром тогда был В. М. Молотов.
После войны Сталин, гуляя с Сергеем Ивановичем по саду и подрезая ножницами куст, вдруг резко повернулся и зло бросил:
— А все-таки ты желал моего падения, когда примкнул к враждебной мне платформе!
На этот раз Кавтарадзе все-таки не посадили, а отправили в почетную — и не худшую из почетных — ссылку. В Румынию…
Я хорошо запомнил весь этот рассказ еще и потому, что слушал его не единожды: в 1968 и 1969 годах гостил у старика на его прелестной дачке под Тбилиси, в Цхнети. Он, бывший тогда уже на пенсии, не мог, конечно, отделаться от такого воспоминания.
Сергей Иванович вообще обладал поразительной памятью. Рассказывая о событиях сорокалетней давности, точно называл имена, подробнейше восстанавливал детали, связанные с бытом или людьми, вплоть до речевых интонаций или покроя одежды.
Очень жалею, что по свойственному многим из нас легкомыслию не записал его рассказов тогда, по свежему следу, ведь с его смертью исчезли какие-то невозвратимые подробности нашей общей истории. Отчасти — только отчасти — искупаю свою вину, записывая время спустя, по памяти.
И, любя Сергея Ивановича, будучи за многое ему благодарным, отмечаю то, что и тогда меня горестно, хотя еще и смутно удивляло: какие бы страшные факты, какие бы изуверские подробности ни приводил он, говоря об Иосифе, Кобе, Сталине, в его рассказе всегда чувствовалось глубокое уважение к Иосифу Виссарионовичу
Итак, 1962 год сулил «Современнику» многое, очень многое. То был пик признания, успеха, пик наших надежд, увенчавшийся гастролями в Тбилиси и Баку.
Осенние надежды были уверенно связаны с «Драконом» Шварца, прочитанным на труппе еще в Тбилиси, с пьесой Гибсона «Двое на качелях», с комедией Володина «Назначение». И это — хоть и отчасти — сбудется. «Двое на качелях» поставит Галина Волчек, и спектакль станет ее успешным режиссерским дебютом. «Назначение» тоже окажется одной из лучших работ Ефремова, в которой он и сам замечательно сыграет Лямина. Впрочем, там был прекрасен весь актерский ансамбль: Евстигнеев — Куропеев-Муровеев, Дорошина — Нюта, Кваша — отец, Волчек — мать. А Володя Паулус играл бухгалтера Егорова, страстного поклонника Есенина. Маленькому скучному бухгалтеру советского учреждения, отбывающему повинную службу, почему-то не давали покоя буйные строки одного из самых мрачных и трагичных поэтов России.
Черный человек на кровать ко мне садится,
Черный человек не дает мне спать… —
читал Паулус — Егоров.
Словом, 62-й год. Мне 28 лет, а «Современнику» всего 6, он юноша, он полон сил. И тут самое время начать рассказ о том, что мечталось тогда Олегу Ефремову и всем нам, что, казалось, сулило вот-вот обернуться реальностью, — и тогда мы выйдем на другие рубежи, взойдем на иной круг спирали, неуклонно бегущий вверх.
VIII
Солженицын. Эту странную, непривычную для уха фамилию я впервые услышат от Виктора Некрасова — пожалуй, несколько раньше, чем о Солженицыне узнали многие и уж тем более все. Мы сидели с Виктором Платоновичем на кухне моей квартиры на Аэропортовской. Было радостное утро выходного дня. А накануне был хороший вечер после удачного спектакля — с обязательной выпивкой, разговорами, спорами и прочими интеллигентскими увеселениями на той же кухне, на русской, советской кухне, по которой так скучают теперь в парижах и лос-анджелесах многие мои друзья. Почему-то именно ее, кухни, им не хватает в их теперешней жизни. Да и понятно почему. Кухня — это символ общности, общения, радости безответственного трепа за жизнь, за искусство; так сказать, «поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви».