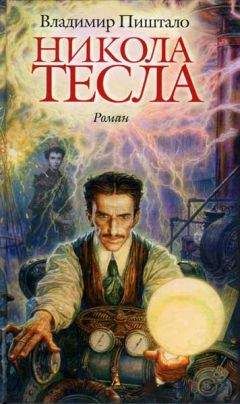Владимир Лорченков - Последний роман
Утром лагерь строится на развод. Заключенных выстраивают в шеренгу, перед ней прохаживаются надзиратели с овчарками, и собаки бросаются на людей, но не часто. Ничего, жить можно. Марина Постойка, пережившая на Украине голод тридцатых, с недоумением глядит на заключенных евреек из Бельгии, которые от голода плачут и едят земляных червей. Бывает и хуже. Работы много. Под станком на заводе, куда заключенных водят каждый день без выходных, Марина Постойка находит каждый раз кусочек хлеба. Бездумно ест. Это, видимо, кто-то из немцев, сочувствующих заключенным. В Равенсбрюке очень чисто и во всем порядок. К примеру, если у кого-то с самого утра температура, то приходит врач, делает укол, и женщина засыпает. Ее увозят. По утру все становятся на развод и стоят по полтора-два часа. Днем спешить некуда. Женщины ходят в город на работу по ночам, ведь днем на станках трудятся свободные немецкие граждане. Завод работает как исправный механизм до самого последнего дня войны. Толковый народ немцы. Марина Постойка в Равенсбрюке по глупости. Ну, или случайно. Все оказались на своих местах во время Второй Мировой войны случайно. Так и она. Ее место был на сельскохозяйственных работах, куда девчонку угнали из деревни в Черниговской области, но Марина решила расклеивать листовки. Товарищи. Власть рабочих. Красная армия. Вернутся. Мщение. Все это было так глупо и смешно, что следователь — а схватили остарбайтера Марину Постойко на второй день ее подпольной деятельности — даже не велел ее расстрелять. Отправил в Берлин. Марина Постойка, девушка из глуши, видит Александер-плацце в Берлина, и ее восхищает эта великолепная площадь, ей вообще в Германии очень все нравится, кроме одного — она заключенная. Гремит цепями. Девчонку ведут по пустому ночному берлинскому метро, где всего спустя четыре года будут тонуть люди. Метро затопят. Это последнее жертвоприношение, сказал, подергивая головой, Адольф Гитлер, — нация, которая не сумела выиграть, должна умереть. Утонут тысячи. Их станут спасать русские солдаты, которых в 2008 году газеты Британии назовут насильниками и скотами, потому что русских нужно снова пнуть за нежелание строить газопровод там, где следует. Ох уж эти русские. Упрямые русские. Особенно их упрямство раздражает восточноевропейцев, которые выиграли войну в 1941 году и которые выиграли войну в 1945 году. Словаков, например. Двое из них, — журналист, специализирующийся на штампованных репортажах из горячих точек, и сопровождающий его филолог, — приезжают в 2008 году в Молдавию, хотят написать репортаж о «замороженном» приднестровском конфликте. Генерал Лебедь щурится. Полковник Лебедь ерзает на неудобном сидении кинотеатра «Искра». Коты отдыхают на камнях разрушенного кинотеатра и земельный участок, огороженный забором с надписью «Бессарабия это румынская земля», покупает сын президента Воронина. Словаки забавные. Они встречаются с писателем Лоринковым, потому что таков стандартный набор любого материала о «замороженном конфликте»: политик, простой житель, писатель или режиссер, снимок с колючей проволокой, снимок на реку с моста, если есть река и мост. Пьют вино, оно здесь неплохое совсем. Словаки ужасно негодуют из-за этих русских, и тактично напоминают, что в 1944 году Словакия внесла свой вклад в разгром гитлеровской Германии. Вовремя. Филолог выражает сдержанное сомнение в том, что вклад русских в мировую культуру так велик, как им это самим представляется. Лоринков вздыхает. Филолог говорит, что проходил практику в русской семье, и его неприятно поразило их мессианство. Зимой и в Волгограде. Лоринков улыбается. Словаки говорят. Лоринков думает, не было ли словаков в той части, что пришла в его родовое село село в 1941 году, чтобы разбить головы его двоюродным дядям — пяти, трех, и одного лет от роду, — за то, что их папочкой был красноармеец. Ничего не умерло, понимает вдруг Лоринков. Успокаивает сам себя. К тому же, напоминает Лоринков, такое случается только в книжках. Никто никогда ни с кем не встречается. Палачи умирают в старости, в довольстве и почете. Жертвы не отомщены. Люди приближаются друг к другу всего раз, чтобы оттолкнуться и разлететься навсегда. Частицы не сцепляются. Круги не замыкаются. Все это выдумки романистов. Надо смириться. В конце концов, он сидит перед представителями народа-победителя, ухмыляется Лоринков. Успокаивается. Просит счет. Словаки вовсе не хотели его обидеть, он просто втемяшил себе это в голову, а русскому если что втемяшится… Мнительные раздражительные упрямцы. Евреи такие же, если не хуже. Один из них, редактор московского журнала «Русская жизнь», вызывающего у Лоринкова отвращение и скуку, — Ольшанский, — пишет, что в 1945 году всю Германию следовало бы вырезать, а земли заселить евреями. Кстати, почему евреями, Дмитрий, ехидно спрашивает Лоринков в комментарии к статье, ведь войну, кажется, выиграли русские, англичане и американцы? Потом добавляет — и словаки. Хохочет.
Мария Постойка русская, она же с Украины, — и она упрямая, — так что она бежит, когда после двух месяцев тюрьмы ее отправляют на работы похуже. Снова Берлин. Ночь, метро, конвоиры, Александр-плаце, цепь звенит, и ее здорово избивают в тюрьме. Шлют на строительные работы. Снова бежит, и снова метро, и конвоиры, кажется, уже узнают, — но это только кажется, ведь их меняют, — и ее шлют в Равенсбрюк. Это конец. Но Марина Постойка проводит в лагере почти три года, что само по себе невероятно, из долгожителей здесь еще — жена коммуниста Тельмана, потерявшая за время заключения двоих детей. Делят нары. Смотрят с удивлением на бельгиек, которые дерутся из-за земляных червей, но потом это у них проходит, потому что запасы червей истощаются. Надзиратели, крупные, холеные мужчины в отличных шинелях — все как в кино, все верно, отметит Марина Постойка, побывав на сеансе фильма про войну в 1962 году, — прохаживаются мимо шеренги. Хочется спать. Спать нельзя, если упадешь, придет доктор, сделает укол, и заснешь навсегда. Собаки рвутся вперед, на женщин. Марина Постойка честно работает и вносит свой посильный вклад в разгром большевистско-жидовской Москвы, вытачивая какие-то там детали на станке, работающем почти 24 часа в сутки. Жить можно. Хлеб даже подкидывают, так что Марина Постойка не падает духом, а работает, и ждет. Когда к городу подходят части Красной армии, немцы понимают, что следов замести не успеют, и выводят женщин колоннами в лес, и начинается бомбежка. Охранники прощаются с подопечными, расстреляв десятка три заключенных, отчего арестанткам кажется, что их Судный День пришел. Прощаются с жизнью. Марина Постойка не для того глядела с презрением на драки возле мусорных баков, и не для того съедала кусочек хлеба каждый день из года в год, чтобы умереть в лесу заключенной, думает Марина Постойка. Бросается за дерево, бежит, плутая, — что, в общем, нетрудно, так как от слабости заносит, — и немцы даже не преследуют, до того ли? Патроны кончаются и они, сплюнув, уходят: заключенные сидят на земле, недоуменно глядя друг на друга и моргая. Что, всё? Марина Постойка бежит по лесу, осыпаемая листьями с деревьев — листву сбивают взрывные волны, — толкаясь с деревьями, и видит впереди просвет. На поле танки. Слышен бег. Листья густого кустарника, у которого сидят заключенные, раздвигаются, и женщины видят смуглое лицо Дедушки Второго, который по инерции продолжает бежать, и буквально падает к ногам арестанток. Товарищ капитан! Тут такое… Листва падает. Земля дрожит. Дедушка Второй останавливается. Марина Постойка бежит.