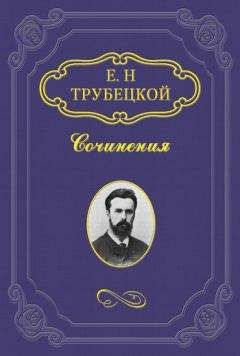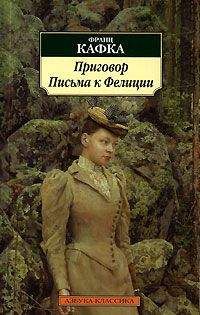Вальтер Беньямин - Франц Кафка
21) «Так, если, конечно, меня самым коварнейшим образом не подводит память, надписи на теле приговоренных к экзекуции в „Исправительной колонии“, наносятся машиной не только на спине, но по всей поверхности кожи, – ведь там даже идет речь о том, как машина их переворачивает (данный переворот – сердце этого рассказа, ибо сопряжен с моментом понимания; кстати, как раз в этом рассказе, основной части которого присуща определенная идеалистическая абстрактность, как и афоризмам, по праву Вами отвергнутым, не следовало бы забывать о намеренно диссонирующем финале с могилой губернатора под столиком кафе)» (Письмо Визенгрунда).
* * *22) «Привязанные крылья ангелов – это не их недостаток, а присущая им „черта“ – крылья, эта допотопная мнимость, суть сама надежда… Именно отсюда, от диалектики мнимости как от доисторического модернизма, как мне кажется, всецело исходит функция театра и жеста… Если же искать суть жеста, то искать ее, как мне кажется, надо бы… в „модернизме“, а именно в отмирании языка… Вот почему она… открыта… глубокому раздумью или почти молитвенному изучению окружающего; что до „опробования“, то мне кажется, ей это непонятно, и единственное, что представляется мне в работе чуждым привнесением, это подключение категорий эпического театра… Романы Кафки – это не режиссерские сценарии для экспериментального театра… Они нечто совсем иное – это последние, исчезающие пояснительные тексты к немому кино (которое совсем не случайно почти в одно время со смертью Кафки исчезло); двусмысленность жеста есть двузначность между погружением в полную немоту (с деструкцией языка) и возвышением из нее в музыку; так что, по-видимому, наиболее важное звено в констелляции „жест – животное – музыка“ – это изображение безмолвно музицирующей собачьей группы… которое я без малейших колебаний ставлю в один ряд с „Санчо Пансой“» (Письмо Визенгрунда).
23) «А посему концепции мира как „театра“ спасения, в самом безмолвном подразумевании этого слова, конститутивно принадлежит и мысль, что сама художественная форма Кафки… к театральной форме стоит в крайней антитезе и является романом» (Письмо Визенгрунда).
24) В «Процессе», считает Брехт, прежде всего кроется страх перед неостановимым и нескончаемым ростом больших городов. Он по самому своему сокровенному опыту знает тот давящий кошмар, который вызывает в человеке подобное представление. Непостижимые взаимосвязи, зависимости, изоляция, в которые загоняют людей сегодняшние формы существования, находят себе выражение в больших городах. С другой же стороны, они находят себе выражение и в потребности в «вожде», который для обывателя является тем, на кого – в мире, где каждый кивает на другого и так легко друг от друга отделаться, – можно взвалить ответственность за все свои невзгоды. Кафка, считает Брехт, видел перед собой только одну, одну-единственную проблему – проблему организации. Что его завораживало, так это страх перед муравьиным государством: как люди сами себя отчуждают формами своей совместной жизни. И определенные формы этого отчуждения Кафка предвидел, как, например, методы ГПУ. Вот почему «Процесс» – книга пророческая.
25) «Соседняя деревня». Брехт: эта история – противоположность истории про Ахилла и черепаху. До соседней деревни рассказчику никогда не добраться, потому что поездку эту некто заранее компонует из самых мельчайших – и это не говоря о возможных несчастных случаях – ее частей. Тогда и получается, что для такого путешествия целой жизни не хватит. Но тут вся ошибка именно в этом «некто». Ибо как сама поездка верхом разнимается на части, точно так же разнимается и путешественник. И как утрачивается единая слитность жизни, так утрачивается и ее краткость. Она может быть сколь угодно краткой. Это уже неважно, ибо в соседнюю деревню приедет верхом уже не тот, кто в нее выехал.
* * *26) Брехт исходит из фиктивного представления, что, предположим, Конфуций написал трагедию или Ленин сочинил роман. Это, как он объясняет, было бы воспринято как вещь неподобающая, как поведение, их не достойное. «Предположим, вы читаете отменный политический роман и только после узнаете, что его написал Ленин, – вы тут же измените свое мнение и о романе, и об авторе, причем к невыгоде обоих. И Конфуцию нельзя было сочинить пьесу на манер Еврипида, к ней отнеслись бы как к чему-то не достойному его. А вот притчи таковыми не считают». Короче, все это сводится к различению двух типов литераторов: визионера /восторженного/, для которого /достоинство/ все всерьез, с одной стороны, и ироничного созерцателя, для которого отнюдь не все всерьез, с другой. К какой из этих двух групп относится Кафка? Вопрос этот неразрешим. Но именно неразрешимость этого вопроса есть знак того, что Кафка, как и Клейст, как Граббе или Бюхнер, – это человек, потерпевший крах. Его исходный пункт – это парабола, притча, которая держит ответ перед разумом и поэтому не придает слишком серьезного значения тому, что касается словесного изложения. Однако и парабола тоже подлежит формовке. Так она перерастает в роман. И зародыш романа, если присмотреться, она несла в себе изначально. Она никогда не была прозрачной до конца. Кстати, Брехт убежден в том, что Кафка обрел свою форму не без Великого Инквизитора Достоевского и не без влияния еще одного параболического места в «Братьях Карамазовых», там, где труп святого старца начинает смердеть. Так что у Кафки парабола пребывает в постоянном споре с визионерством. Но Кафка, как визионер, по Брехту, видел грядущее, не умея разглядеть настоящее.
27) Брехт. К Кафке надо подходить вот с какой стороны: что он делает? и как при этом держится? И смотреть первым делом на всеобщее, а не на особенное. И тогда выяснится, что жил он в Праге в дурной среде журналистов и литераторов-зазнаек, в этом мире главной, если не единственной реальностью была литература; из подобного способа мировосприятия вытекают сильные стороны Кафки и его слабости – его художественная значимость, но и его всяческая никчемность. Он обычный еврейский мальчик – как можно было бы запечатлеть и тип арийского мальчика, – хилое и безрадостное создание, сперва просто пузырь на крикливом болоте пражской культуры, и больше ничего. Но потом, однако, в нем все же проявляются определенные и весьма интересные стороны. Главное в том, чтобы Кафку прояснять, то есть формулировать практические выводы, которые можно извлечь из его историй. Что таковые выводы извлечь можно – это вполне вероятно, это нетрудно допустить хотя бы по подчеркнуто спокойному тону, который определяет манеру этого повествования. Но выводы надо искать такие, которые направлены на всеобщие великие беды, которые досаждают современному человечеству.