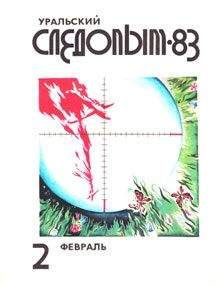Лев Копелев - Хранить вечно. Книга вторая
- Ты ей скажи, чтоб адвоката взяла хорошего, а какого и насчет грошей, чтоб спросила у дяди Васи. Так и скажи - дядя Вася, что мне родич, он папин двоюродный. Он самостоятельный, на большой работе, не знаю точно какая, потому что очень секретная… Так что ты и не спрашивай, а скажи, что я велела, чтоб пошла к дяде Васе, а мне пускай передаст четыре головки луку и три головки чесноку… Значит, ты был и она поняла. А ты правда фашист? Или, может, фраер и только косишь под фашиста?
После первых же бесед было ясно, что Тоня либо чистая «жучка», «воровайка», либо на пути к этому - «полуцвет», «приблатненная». Разговаривала со мной только она, от сока-мерниц передавала приветы.
- Они вертуха боятся, чтоб в трюм не спустил. Нервные дамочки. А я девочка московская, мне вся милиция знакомая. Я и днем никакого мужика не боюсь, а ночью пускай он меня боится…
Назвался я предусмотрительно Лешей Кошелевым, не хотел «серьезного знакомства», а на случай неожиданной встречи - значит, плохо расслышала.
Утром, сразу после поверки, труба нетерпеливо цокотала - дежурные прошли и до раздачи хлеба коридор пустел. Стуком определяли точку.
- Доброе утро, Леша. Еще не выгнали?… Чего снилось? А мне снилось, что я вроде на танцах или в клубе и тут кого-то хоронят. А в гробу лежит один знакомый мальчик, но только он живой и вроде надсмехается… Вот тут женщины говорят это хороший сон - если похороны видеть… А ты как понимаешь?
Когда их водили в уборную, Тоня успевала заранее предупредить и просила, чтоб я стал посреди камеры лицом к двери. Несколько раз она ухитрялась заглянуть ко мне в волчок. Тогда я слышал за дверью басовитое хихиканье.
- Лешенька!… Ой, гражданин дежурненький, я ж думала, там никого нет.
И топот.
Потом она кокетливо лопотала в трубу:
- А ты не такой, как я воображала… Я даже не мечтала, что ты такой черный, солидный… Я обожаю, чтоб король крестей. А ты не с Кавказа будешь? А вроде на нацмена похожий и усы, как у товарища Сталина. У тебя мама еврейка? Ну и что, у них тоже бывают хорошие люди. Я одну евреечку-маникюрщицу знаю, такая самостоятельная, и мы с ней как подруги… А ты, когда пойдешь на прогулку, стукни. Я спичкой волчок открою, у нас стеклышка нет и ты посмотри: я в красной кофточке.
Однако я мало что видел при таких смотринах по близорукости и в спешке. Выводные обычно сердито кричали, грозили оставить без прогулки. В камере чуть больше моей теснились четыре койки. Над красной кофточкой угадывалось широкое лицо и лохматые серо-русые волосы.
- Ну, видел? Как я тебе показалась? Точно дама бубей, только это ж я неприбранная, а ты б видел, когда я с перманентом, бровки наведу, губки подмажу, такая девочка, хоть с генералом гулять. - И внезапно еле слышно: - А вот и бубновая… Что ты, зараза, понимаешь, ты на себя посмотри, жаба. Вот закатаю в лоб, так узнаешь, кто червей, а кто бубей… Падло червивое… Ой, Лешенька, у нас тут разговор между собой. А ты анекдоты знаешь? Расскажи какой повеселей. А потом я тебе спою…
Анекдоты она и сама рассказывала, густосальные, иногда приговаривая «извините за выражение». Пела цыганисто «Мой костер», «Соколовский хор у яра».
- Тюремных я не знаю, ты что, думаешь, я блатная жучка? Это я только шутю, вроде как артистка… Насмотрелась в тюрьме. А ты не думай, Лешенька, я хорошая девочка, самостоятельная мамина дочка… Я мечтаю на доктора учиться…
Мы скоро убедились, что их камеру и меня всегда водят в одну и ту же уборную, и там нашли «заначку» - щель за батареей, обтянутой прохудившейся проволочной сеткой. Я стал класть туда «передачки»: узкие свертки с конфетами, печенье, мамины пирожки, сигареты, а Тоня мне к Новому году две «марочки» - носовые платки. По углам незабудки и пестрая мережка.
К Новому году я уже стал свыкаться с мыслью, что оправдание не утвердили и теперь меня опять передадут на О СО - это значило опять лагерь. Но ведь не может быть больше пяти лет, а я уже скоро два года - почти полсрока, и поэтому далеко не должны угонять… А что, если просто не хотят полного оправдания, дадут три года, применят амнистию, но чтоб жил не в Москве, не на идеологический работе… Буду заниматься всерьез медициной, писать… Если уж остался жив после такой войны, значит выживу и в лагере. Или амнистированный завербуюсь в Заполярье, на Дальний Восток, там докажу…
Коридорные уже привыкли ко мне. Благодушный толстяк каждый раз, объявляя отбой, говорил:
- Давай спать, чтоб напоследок выспаться, а то дома жена спать не даст…
Но злой коротыш, который дежурил, когда я добивался книг, вывел меня на вечернюю оправку после всех и приказал:
- Мой туалет!
Я не стал возражать, полагая, что дошла очередь до моей камеры. Орудуя шваброй и ведром, я добрый час провозился в большой уборной: шесть очков, длинный бетонированный ровик - писсуар, четыре умывальника с восьмью кранами. Нужно было выгрести окурки из-за писсуара, смыть грязь с пола и со стен.
Но через два дня тот же дежурный опять вывел меня последним и опять: «Мой туалет!»
Я сказал:
- Не стану, я уже мыл два дня назад.
- Ну и что? Значит, умеешь. Мойте, потому что и теперь обратно очередь. Или вы офицер и ручки не хотите пачкать?
Он оскалился с такой злобой, что меня просквозило холодной безнадежностью: этому ничего не объяснишь, не убедишь и уж, конечно, не разжалобишь.
- Не буду мыть, не моя очередь. Не имеете права издеваться.
- Ну и сиди всю ночь в говне. Офицер! Он захлопнул дверь.
Я стал стучать шваброй в железную дверь и кричать:
- Дежурного! Требую дежурного по тюрьме. Прекратите издевательство!
Через несколько минут он открыл глазок и сказал торжествующе медленно:
- Был отбой. Будешь стучать и шуметь, свяжем и тут же, в сральне, до утра валяться будешь. Хотишь так ночевать, офицер? Потом можешь жаловаться хоть в Верховный Суд…
Выбора не было. Ночевать в уборной, даже не связанным, в сыром зловонии, а потом жаловаться и чего добиться? Если мне поверят, ему сделают замечание. Но поверят ли? У меня свидетелей нет, а у него в соседнем коридоре найдутся приятели - охотники потешиться над «офицером». Я даже не стал ругаться, молча принялся убирать. Через час или полтора он пришел за мной. Я услышал, что идут двое, но он открыл дверь так, словно был один: я не мог видеть второго…
- Не халтурил? Все помыл?
- Можете проверить.
- Ведро и швабру ставь в угол.
Я шел молча, как положено, впереди него, сцепив руки за спиной. Но у открытых дверей камеры повернулся. Его партнер-свидетель уже не прятался, а стоял на площадке, курил. Я остановился на пороге и стал пристально глядеть на моего воспитателя, но так, чтобы взгляд был любопытным и даже жалостливым.