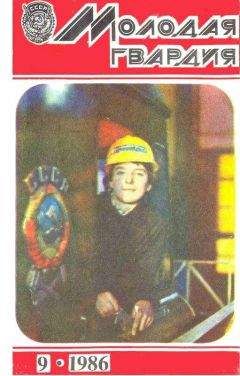Эраст Кузнецов - Павел Федотов
Предназначенный стать центром новой столицы, но так и не успевший стать им, Васильевский остров действительно замкнулся в своей окраинности, но это вовсе не было сонное захолустье, вроде Коломны, приюта чиновников на покое, вдов и вообще небогатых людей, где «всё тишина и отставка». Нет, здесь, на Васильевском острове, продолжал жить дух петровского времени. Он сказывался во всем. В явном преобладании первоначальных построек — тех, что в центральной части города давно были снесены, перестроены неузнаваемо или попросту терялись в своей голландско-немецкой умеренности рядом с великолепными творениями Растрелли, Захарова, Росси, а здесь продолжали являть собою едва ли не высшую степень архитектурной роскоши. В постоянном и активном присутствии западного элемента — не только уже приноровившегося к российской жизни, обкатанного русским нравом и духом, как в центре, но сохраняющего своеособость, а с нею и способность взаимодействовать активно с элементом местным: соперничать с ним, оттенять его, влиять на него. Во всей непарадности облика, особенно берегов, не оправляемых любовно в гранит, но беспечно заваливаемых ящиками, бочками и тюками, захламляемых щепой, мусором, перегораживаемых вкривь и вкось заборчиками и заборами многочисленных складов, облепляемых лодками, баржами и суденышками самого разного сорта. И, конечно, в самом образе существования, при котором вставали рано и так же рано отходили ко сну, и когда в поздний час там, за Невой, продолжалась ночная жизнь, когда над домами угадывалось легкое золотистое сияние от фонарей, света в окнах и доносился неясный гул, — здесь уже властвовал покой крепкого здорового сна, и разве что в восточной оконечности острова чувствовалось слабое подобие движения.
На Васильевском острове меньше было праздности и тщеславия, меньше гнездилищ российского холопства: знатных барских домов с разжиревшей и наглой челядью, присутственных казенных мест, засиженных чиновничьей братией. Все, что ни рвалось к карьере, к обжигающему пламени успеха или к своей доле казенного пирога, не засиживалось на Васильевском острове. Вот ведь и гоголевский Чартков прозябал себе на 15-й линии, а чуть зашумело в голове — поспешил перебраться на Невский проспект.
Здешний житель был по преимуществу человек дельный, из тех, что сам себя кормит, что-то положительное умеет, не ищет покровительства и в жизни обязан главным образом самому себе — если не умелым рукам, так светлой голове или хотя бы житейской разворотливости (которая, если призадуматься, тоже есть и талант, и умение): купец, ремесленник, рабочий, моряк, военный, студент, врач, служитель науки, преподаватель или, наконец, художник.
Неудивительно, что Федотову Васильевский остров пришелся по нраву.
Обещанной казенной квартиры при Академии художеств он так и не получил. Несколько раз (вплоть до 1850 года) обращался с прошениями, напоминал, ссылался на барона Петра Клодта, такую квартиру при отставке получившего, объяснял, как стеснены его обстоятельства, просил хотя бы выдавать ему взамен квартирные деньги, но ничего из этого не получилось.
Дом Шишковой, в котором поселился Федотов, был ветхий, запущенный, почти нежилой, потому что кроме Федотова там большей частью никто не обитал — ни хозяйка, ни жильцы. В доме было то холодно, то угарно, а то и холодно и угарно вместе, во дворе царило запустение. Зато квартира обошлась чрезвычайно дешево, а житейских трудностей наш герой не боялся, он к ним был готов всецело.
В две комнатки — одна побольше, другая поменьше — и въехал он со своими гипсами, которых стало уже гораздо больше (появился среди них даже бюст Венеры Медичи, или Медицейской, как тогда ее называли), с литографированными «оригиналами», папками, рисунками, бумагой, красками, кистями, карандашами, со знаменитой черной доской и прочим достаточно нехитрым имуществом. По подоконникам низко расположенных окон расставил папки и картоны, чтобы свет шел хоть немного сверху — уловка, придуманная не им первым, с той разницей, что более хозяйственные заводили плотные занавески.
Как складывалась, устраивалась и обминалась его новая жизнь — нам не известно ничего; все это осталось вне воспоминаний, да и, скорее всего, не было никому доступно. Можно догадываться, что Федотову пришлось нелегко — даже при его уравновешенности и здравости. Нечто подобное он уже испытал десять лет тому назад, после корпуса. Правда, сейчас он стал повзрослее, но и перемена произошла посерьезнее.
Трудно с непривычки самому за себя отвечать. Трудно вдруг одному, без казармы, где все кругом свои. Трудно даже без начальства, которое хоть и давит тебя, а все-таки и опекает. Трудно заново (впервые в жизни!) устраивать жизнь, заводить новый обиход, все до мелочей. Было бы еще труднее, окажись Федотов совсем один. Слава богу, рядом находился Аркадий Коршунов — денщик, ушедший вместе с ним из полка, золотой человек, истинный подарок судьбы, каких не много перепадало Федотову в его жизни.
В сущности, мы ничего не знаем о нем — кто он был, откуда, каких лет, куда сгинул после смерти хозяина, которого он выхаживал до последнего вздоха и проводил до кладбища. «Маленький черный человечек с сметливым и умным лицом, как у всех ярославцев» (как вспоминает Александр Дружинин), «личность также оригинальная… человек редкой честности и замечательной привязанности к хозяину» (как пишет Иван Можайский), Коршунов с его хитроватостью, ворчливостью, подчас и заносчивостью, являл собою простого русского человека в его лучшем виде: преданность без холуйства.
Он вполне проникся личностью своего хозяина, его интересами и заботами, в какой-то мере даже художественными пристрастиями — вряд ли он их сколько-нибудь понимал, скорее воспринял инстинктом человека доброго и отзывчивого. Так, свою комнатку он неизменно обклеивал лубочными картинками и неудачными рисунками Федотова, отданными ему за ненадобностью. «Как же и мне не заниматься художествами!» — весело и, верно, не без лукавства говорил он по этому поводу.
Он охотно пошел вслед за Федотовым — стал ему слугой, нянькой, опекуном, дядькой, даже другом. Федотов его так и называл: «мой слуга и друг» — и платил той же привязанностью, а порою — и самоотверженностью. Как-то случилось Коршунову заболеть, и Федотов, категорически не бравший денег взаймы, даже у самых близких людей, глубокой ночью кинулся к кому-то из приятелей за тремя рублями, нужными на доктора и лекарство. Приятель предложил ему в помощь своего слугу, но Федотов отказался: «Коршунов всегда за мной ходит, теперь пришел мой черед служить ему; я никому не передам этой обязанности».
Совместная жизнь двух глубоко преданных друг другу людей протекала не идиллически, а в непрерывных препирательствах по самым разным житейским поводам — вполне искренних со стороны Коршунова, который, по всеобщему мнению, был педант, со стороны же Федотова — скорее всего шутливых, да еще окрашиваемых некоторой театральностью, особенно если дело происходило при госте. Можайский воспроизвел одну из подобных сценок.