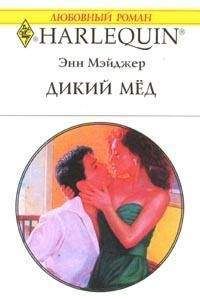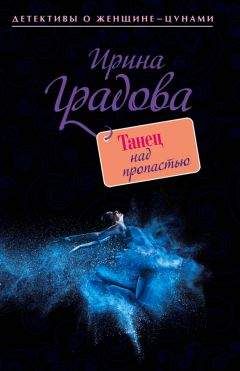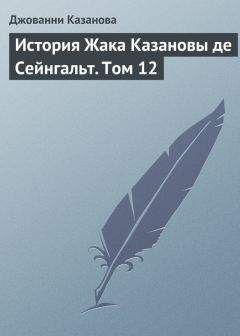Лада Акимова - Загадочная Шмыга
В ее облике и манерах ничто не выдает артистку, которой знакомы слава и успех. Закончился спектакль, закрылся занавес, отгремели овации, она сняла в своей грим-уборной театральный костюм и грим, надела очки, вышла через служебный вход на улицу — и уже через некоторое время занялась обычными повседневными делами. А блеск и шик своих героинь оставила в стенах театра. Она не путает сцену и повседневную жизнь.
Иногда доходит до смешного. Люди не из театрального мира, пришедшие в театр со служебного входа по своим делам, желая увидеть ее «в жизни», говорят: «Покажите мне вашу прославленную Шмыгу» — и с этим возгласом порой проходят мимо нее. Она только радуется этому обстоятельству. Как и тому, что на улицах ее узнают очень редко.
— Зайдешь в магазин, так не дай бог, чтобы узнали, — не раз хохотала она. — А то какая-нибудь экзальтированная дамочка воскликнет: «Ой, Татьяна Ивановна, да вы бы без очереди…» Я тут же подхватываюсь — и пулей из этого магазина.
Не любит она и светскую жизнь. Предпочитает уединение в собственном доме. Ее очень редко можно встретить на различного рода банкетах и презентациях. Она собирает гостей у себя дома. Сюда очень любят приходить друзья — а они у нее замечательные, настоящие. Люди, с которыми она прошла через десятилетия. Причем в основном они не актеры — врачи, учителя, физики.
Так что же объединяет с Джулией? Многое. И это многое называется — Театр!
Она сделала свою Джулию. Безумно талантливую, тонкую, колкую, ироничную, трогательную, смешную, где-то нелепую, но неистово служащую лишь одному — Его Величеству Театру, пусть даже в ущерб собственной жизни. Ведь в наше время актеры служат театру не менее истово, чем в прошлые века.
Ее Джулия не была грубой, а уж тем более вульгарной, как это написано у Моэма. Свое знаменитое «черт побери!» она произносила не только с настоящим опереточным шиком, но и с необычайной тонкостью и особым женским шармом.
С таким же настоящим опереточным шиком, необычайной тонкостью и особым женским шармом она играла свой роман с молоденьким клерком. Ведь Джулия — женщина умная и все прекрасно понимает: и что происходит, и чем закончится ее столь страстное увлечение, которое со стороны выглядит несколько нелепо.
С каким лукавством и шармом истинной женщины она исполняла одну из своих любимых арий:
Когда мне стукнет шестьдесят,
Мне все на свете будет можно!
Я пива свежего напьюсь
За все не выпитое мною,
Потом большой прием устрою
И никому не улыбнусь!
Пускай мне это не простят!
А мне плевать! Плевать на ссоры.
Но ведь шестьдесят будет еще так не скоро… И именно поэтому ей еще рано прощаться с театром. Да и не простится она с ним никогда — сколько бы лет ей ни было. Потому что театр для нее — это:
«Мир, где радость и боль. И дается нам роль в нем навсегда!»
Так было и так будет всегда! Для нее, во всяком случае.
«Ну так что ж, Джулия! — беря ее за руку, восклицает в финале Джимми — тот самый антрепренер, который и сделал из нее великую актрису Англии. — Значит, завтра все заново?»
Все сначала, с нуля,
— его мысль продолжает Майкл, —
Поднимается занавес, бахромою пыля,
И на суд и расправу ожидающих лиц
По закону и праву мы идем из кулис.
Стоящие на сцене актеры подхватывают финальные слова:
Благословен во веки веков,
Дарящий нам жизнь и любовь,
Благословен щедрый во всем
Театр — наш дом, благословен!
Финал этого спектакля стал гимном театру. Единственному месту, где и есть настоящая жизнь.
Ведь еще старик Шекспир сказал, что «весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры». И кто, как не ее Джулия, прекрасно об этом знает. Это не она притворяется в повседневной жизни, а те, кто возле нее. Это они — простые смертные — играют кто в политиков, кто в любителей старины, кто в удачливых предпринимателей. Сколько лет прошло с тех пор, как Моэм написал свой самый знаменитый роман. И что изменилось? Ровным счетом ничего — как люди играли в обычной жизни, притворялись друг перед другом, устраивали театр, так и теперь играют, притворяются и устраивают театр. И лишь актеры, закончив спектакль, снимают свои костюмы, смывают грим — и, выходя из стен театра, превращаются в обыкновенных людей, которые завтра вновь выйдут на сцену и станут обольстительницами, стервами, героями-любовниками, комиками, трагиками…
И зрители в зале понимали это. И плакали вместе с ней — сама не желая того, финал она играла «на разрыв аорты». Так уж у нее получалось. А иначе она не могла.
Многие восприняли новую постановку чуть ли не в штыки. Что только не пришлось ей услышать и прочитать в прессе. И что мюзикл весьма далек от романа Моэма, и что в нем появилось множество сомнительных острот, которые еще чуть-чуть — и приблизятся к пошлости. И что актеры на ее фоне выглядят бледновато. Но жизнь уже давно научила ее не обращать внимания на подобные уколы. Хотя иногда так и хотелось сказать: «А вы попробуйте сами». Но она не отвечала, просто выходила на сцену и играла свою любимую Джулию Ламберт. Играла для тех, кто пришел в зрительный зал. А он на протяжении шести лет, что шел спектакль, всегда был полон.
За шесть лет декорации обветшали, играть в них с каждым разом становилось все опаснее, чтобы сделать новые, нужны были деньги, которых в театре не нашлось. В тот день, когда объявили о том, что спектакль снимается с репертуара, ей на миг показалось, что у нее остановилось сердце. И вот в тот вечер ее Джулия Ламберт прощалась с театром по-настоящему. Многие зрители подумали, что сама Татьяна Шмыга прощается с театром, — настолько пронзительна была она в финале. Слезы помимо ее воли лились из глаз. И она никак не могла их остановить. В гримерной, где она, опустошенная, долго сидела после спектакля, ей впервые пришла в голову мысль: «А что со мной будет, если с репертуара снимут «Катрин», а за ней и «Джейн», премьеру которой сыграла не так давно. Ведь для меня это равносильно смерти».
Из ступора ее вывел пришедший в гримерную муж. Он, как всегда бывало в таких случаях, сидел в машине и ждал ее выхода из служебного входа театра. Она не выходила очень долго, и он, начав волноваться за жену, поднялся к ней в гримерную.
— Толя, — плакала она, — ты пойми, из меня как будто вынули часть моей души.
Танечка! Я все понимаю. Поговорим об этом дома. Пойдем. Возле служебного входа стоит толпа, все ждут тебя. Боюсь, как бы они не разнесли театр, — последнее он произнес со смехом.