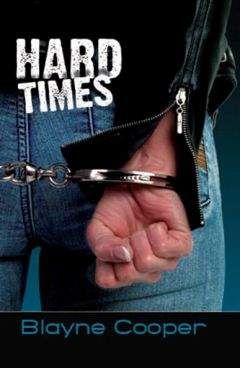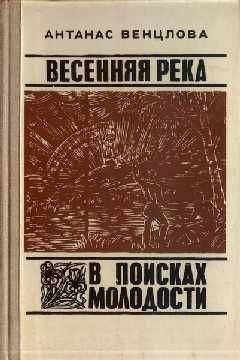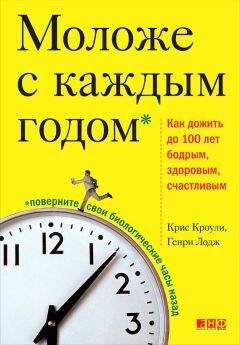Антанас Венцлова - В поисках молодости
Осенью мы издали третий номер журнала. Я писал в нем о нашем путешествии:
«Солнце. Пыльные дороги. Убогие лачуги.
…И всюду поля кишат людьми. Эти люди встречают гостей распростертыми объятиями, угощают хлебом, отрывая его от своего рта. Сквозь запыленные окна в лачугу едва проникает дневной свет.
…Руины поместий. Обнищавшие городки. Каменистые розовые холмы, зеленые боры — и всюду люди, склоненные под давящей нищетой… Литовская деревня погрязла в темноте. Она забыта всеми, кто из нее вышел. Сыновья многих крестьян стали господами в городе и домой возвращаются только отъесться, когда устают от пьяного житья. Потом они уезжают, и под соломенными крышами все идет по-старому.
Как было тридцать — пятьдесят лет назад, как было еще раньше.
Люди боятся привидений, боятся чертей, ксендзов, судебных приставов и прочих господ. Перед одними они крестятся, перед другими — кланяются и целуют им руки.
Но каким бы печальным ни был вид нынешней Литвы, ничто не стоит на месте. Даже обомшелый камень, смирно лежавший веками, начинает двигаться.
Литва тоскует по светлому будущему.
Литва призывает нас посвятить все свои молодые силы борьбе за будущую жизнь нашей земли, вложить всю энергию в активное строительство новой жизни, в борьбу за свободу и светлые дни мрачных лачуг».
Эти слова, пожалуй, довольно ярко характеризуют то, что мы увидели в своем первом путешествии.
Вернувшись из путешествия домой, в родную деревню, я много часов провел над рукописями. Надо было непременно кончить первый сборник рассказов. Если уже вышла книга Цвирки, то должна появиться и моя! Правда, многие рассказы мне не понравились. Слабые рассказы я повыбрасывал. Отпал и заголовок «Человек между пилами» — цензура пропустила лишь первую половину этого рассказа. Я думал и так и сяк — ничего путного не приходило в голову. «Счастливый человек Цвирка, — думал я, — он начинает писать лишь тогда, когда уже есть название. Оно задает тон, и рассказ катится сам собой. И заголовки у него поэтичные, и свою первую книгу прозы он назвал интересно и ново».
Вдруг в один прекрасный день в Трямпиняй появился Пятрас Цвирка. Как обрадовались мы с братьями! Он понравился им своей разговорчивостью — совсем не похож на Казиса Боруту, который приезжал ко мне тем летом. Тот скажет слово и молчит, сидит и о чем-то думает… А Пятрас все говорит и говорит, и о Каунасе, и о нашем путешествии, и о своей родной деревне…
В один жаркий день мы с ним взобрались на Часовенную горку и, вытирая пот, уселись на старых пнях. Пятрас поднял голову, посмотрел на исполинские березы, растопырившие ветви в голубом небе, и сказал:
— Ты все не находишь названия для своей книги? А вот тебе название — хватай обеими руками, и все!
— Какое же? — удивился я.
— «Березы на ветру»! Я уже раньше на них смотрел, когда ветер дул. Они наклонились над обрывом… Как наши интеллигенты… Да и вообще у вас много берез.
— Спасибо тебе, Пятрас! — обрадованно воскликнул я. — Лучше и не придумаешь. Да и вообще береза — красивое дерево. Я сызмальства страшно люблю березы.
Пятрас расхохотался:
— Как видишь, и Пятрас Цвирка кое-что смыслит… А облить название придется.
— Непременно, как обливали весной твой «Закат». Снова поедем к Пиюсу в Кармелаву.
— Смотри у меня! А теперь пойдем искупаемся в твоем знаменитом озере. Переплывем и мы его, как свиньи…
Я принялся рассказывать — наше озеро-де раньше было куда больше, но помещик решил осушить свои луга, выкопал канаву и спустил метра два воды в реку.
— Не оправдывайся, — смеялся Пятрас. — Я говорю об озере не о таком, каким оно было в древности, а о таком, каким вижу сейчас. Нет уж, братец, это тебе не Обелия и не Дуся! А побродили мы с тобой славно. И хорошо сделали. Какой из тебя, черт подери, писатель, если ты вдоль-поперек не исходил своей страны!
В воскресенье я познакомил Пятраса с окрестной молодежью — приехавшими на каникулы студентами, гимназистами, друзьями детства.
Вечером мы задержались на вечеринке и возвращались домой на телеге. Вместе с нами ехали две красивые девушки, которые всю дорогу пели, а мы подтягивали своими неумелыми голосами.
Была необыкновенно теплая ночь. Над полями горели тысячи крупных звезд, поля пахли скошенным клевером. Это была одна из тех ночей, которые заставляют человека мечтать и надолго застревают в памяти, оставляя в душе теплые воспоминания. Телега подвезла нас к дому, мы попрощались с девушками, которые уехали дальше. Стоя у ворот, мы долго слушали их пение, которое смолкало в ночи…
— Какие прекрасные девушки!.. И ночь-то какая, — сказал Пятрас, когда мы, минуя садик, вошли во двор. — И спать не хочется.
Мы легли на сене и долго еще, разговаривали обо всем — о молодости, красоте, любви… Мы разговаривали о любимых книгах, о странах, которые собирались увидеть…
* * *В это лето, еще перед нашим путешествием, произошла своеобразная сенсация — в Литву приехал Константин Бальмонт. Когда-то он был чуть ли не самым популярным поэтом России. Уехав после революции за границу, он поселился в Париже и продолжал издавать книги, которые были хуже прежних.
Где-то около 1927 года поэт стал сильнее интересоваться Литвой, ее писателями и литературой. Раньше, еще в бытность свою в России, он перевел на русский язык немало литовских песен, а одно стихотворение посвятил Юргису Балтрушайтису[73] («Ах ты, Юргис, гордый Юргис…»). Многие литовские писатели, в первую очередь Сруога, любили творчество Бальмонта. Получив во Франции от Тислявы учебник, Бальмонт выучил литовский язык и начал читать в оригинале произведения наших писателей. Установив переписку с некоторыми из них, особенно с Лгодасом Гирой, он стал переводить их стихи и писал статьи против панской Польши в защиту Литвы. Подобная позиция поэта показалась полезной литовским властям, и они начали помогать ему через свое посольство в Париже. И вот Бальмонт — в Литве.
Кажется, первого июля я вместе с другими каунасцами пришел в Летний театр — деревянный барак, построенный рядом со зданием театра. Здесь собрались не только любители сенсаций. В первом ряду восседали три министра, никогда еще не посещавшие литературных вечеров, да и вообще не интересующиеся литературой, — министры иностранных дел, просвещения и внутренних дел. На сцене показался поэт, небольшого роста, длинноволосый человек в куцем и тесном пиджачке. Корреспондент журнала «Новое слово», который на днях брал интервью у поэта, следующим образом описал его внешность: «Старик, который сидит сейчас передо мной, своим белым лицом, обросшим редкой бородкой, длинными, распущенными волосами, которые словно ореол окружают его лицо, взглядом голубых глаз похож на солнышко, такое, какое мы с детства привыкли видеть в сказках: старое, доброе и улыбчивое». Мне лично Бальмонт не показался ни слишком старым, ни слишком добрым. Скорее уж он выглядел усталым, опустившимся, замученным эмиграцией. В начале вечера он сказал фразу по-литовски, почему-то не соединяя звуки в слова. Потом читал свои старые популярные стихи. Декламировал он напевно, патетически, и казалось, что главное — не поэзия, а автор. Он читал «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Будем как солнце» и другие. Публика, знавшая ранние произведения поэта, приняла их хорошо. Потом Бальмонт сказал, что прочитает доклад о литовских песнях, который он уже читал в Сорбонне, а также в Сербии и Болгарии. Правительственная газета «Эхо Литвы» несколько дней спустя писала, что поэт в своем докладе «охарактеризовал идеалы литовского народа, которые получили выражение в народных песнях и сказках, и особенно резко и неприветливо отозвался о поляках… После этого, — продолжала газета, — он читал еще не опубликованные свои стихи, посвященные Литве, — о Витаутасе Великом и героическом прошлом нашего народа».