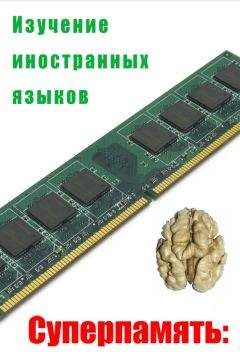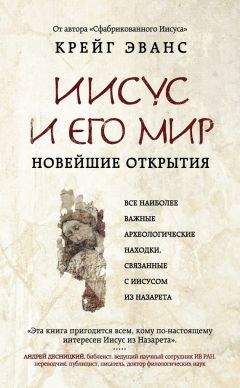Георгий Мунблит - Рассказы о писателях
Дочитав свои записки до этого места, Александр Александрович остановился, полистал свой дневник и прочел еще несколько страниц из рассказа Маринеско про то, как нелепо, нечестно и оскорбительно был организован суд по делу о торфяных брикетах, как уже по дороге в лагерь, объединившись с несколькими морячками, он не на жизнь, а на смерть схватился с компанией уголовников и одолел их, как после лагеря вернулся в Ленинград, был восстановлен в партии и поступил на завод, где никому из своих новых знакомых не стал рассказывать, кто он такой и кем был прежде, как женился и с каким трудом достал комнатку, в которой теперь живет, как, вспоминая о своей прежней жизни, иногда не верит, что все это действительно было, и как старается не думать о том, что с ним будет дальше...
Когда чтение подходило к концу, я украдкой посмотрел на Ивана Степановича. Он слушал очень внимательно, и мне почудилось даже, что лицо его потеплело, но ручаться за это я бы не стал. Очень трудно было установить по его лицу, что он думает.
К счастью, на этот раз он сразу же сам сообщил нам об этом.
- Меняю свое мнение, - сказал он и встал, тяжело опершись на костыли. - Меняю не потому, что нахожу оправдание для самовольной отлучки в иностранном порту на двое суток. Но считаю, что наказание должно соответствовать не только преступлению, но и послужному списку человека, который преступление совершил... Тут у меня имеются мемуары одного из бывших гитлеровских вояк...
Он взял со стола книжку, заложенную в нужном месте аккуратной закладкой, положил перед собой и постучал по ней пальцем.
- В этих мемуарах сказано, что потопление «Густлова» было одной из самых блистательных подводных операций, какие известны автору. А уж в чем, в чем, но в подводных операциях этот господин разбирается... Так что ваш Маринеско хоть и виновен, но заслуживает снисхождения... И поэтому позволю себе обратиться к вам с покорнейшей просьбой. Пересмотр дела Маринеско - вопрос сложный. Сам же он, как вы утверждаете, тяжко болен и беден. Вот я и попрошу вас, друзья мои, передать ему дружеский мой привет и сообщить, что все то время, какое понадобится для пересмотра этого дела, он будет получать от меня по сто рублей в месяц. Вам же, Александр Александрович, приношу глубокую благодарность за то, что обратились ко мне.
Этим и закончился в тот день наш визит к Исакову. И сколько мне помнится, распрощавшись с ним, выйдя на улицу и идучи по набережной, мы с Кроном не обсуждали того, что только что произошло. Но все это время мы, если можно так выразиться, молчали об одном и том же. И пожалуй, это молчание наилучшим образом выражало полное единодушие, кстати сказать, не такое уж частое в наших давних дружеских отношениях.
...Иван Степанович не любил говорить об обстоятельствах своего ранения, так круто и страшно изменившего всю его жизнь. И только однажды, вспоминая первые годы войны, он рассказал мне о происшествии, с этим связанном.
Первые месяцы войны он провел в Ленинграде, в качестве уполномоченного Верховного командования по Балтийскому флоту. И вскоре после того как город оказался в блокадном кольце, ему, как и другим руководителям обороны, было предоставлено право эвакуировать на Большую землю тех, кого они сочтут нужным уберечь от превратностей осадного положения и надвигающейся зимы. Между другими его выбор пал на флагманского хирурга флота Юстина Юлиановича Джанелидзе, человека очень уже немолодого и поэтому мало приспособленного к голоду и лишениям.
Иван Степанович вызвал Джанелидзе к себе и предложил ему немедленно собираться в дорогу. Тот сердито поглядел на него и сказал:
- Основатель русской военной хирургии, один из тех божьей милостью лекарей, на кого всем нам хочется быть похожими, - я имею в виду, как вы понимаете, доктора Пирогова, - в начале Крымской кампании, быстро собравшись в дорогу, двинулся не от фронта, а к фронту. Что же касается моего возраста, то я считаю, что человеку должно быть не столько лет, сколько написано у него в паспорте, а сколько требуется в данный момент.
И несмотря на явную спорность последнего утверждения, никакие доводы не могли победить упорство старого доктора.
Прошло довольно много времени. Иван Степанович был отозван из Ленинграда, побывал на Дальнем Востоке, куда его направили, как он говорил, «поглядеть, как бы японцы не устроили нам Пирл-Харбор», оттуда перевели на Черноморский бассейн, и вот здесь-то, в районе Туапсе, он был тяжело, непоправимо ранен бомбой, сброшенной вражеским бомбардировщиком на вереницу автомобилей, двигавшихся через перевал.
Когда в тяжелом состоянии Исакова привезли в один из прифронтовых госпиталей и хирурги всех рангов принялись судить и рядить о том, как следует поступать с его искалеченной ногой, кому-то из них пришло в голову срочно вызвать из Ленинграда для консультаций флагманского хирурга.
Тот приехал, поглядел раненого, высказал свое мнение и, видимо стремясь приободрить Исакова, с сердитой шутливостью проворчал:
- Ишь какой упрямый! Нашел-таки способ выманить меня из Ленинграда. А для чего? Для чего меня здешние доктора вызвали? Чтобы снять с себя ответственность! Трудно им, конечно, лечить человека высокого звания. Был бы на вашем месте краснофлотец, они бы сами решили, как быть. - И, назидательно подняв палец и отчеканивая слова, закончил: - Доктор лечит лучше всего, когда всем сердцем хочет помочь больному. Понятно? Хочет вылечить, а не боится не вылечить! Страх, как известно, плохой советчик, это вам, как военному человеку, известно.
Передавая мне слова Джанелидзе, Иван Степанович утверждал, что в его собственном случае они полностью подтвердились. Лечили его робко, неуверенно и неверно, и это привело к тому, что его до сих пор мучают по временам сильнейшие боли.
Мне же представляется, что утверждение старого доктора следовал бы толковать еще и расширительно. Горячее желание - стимул гораздо более могучий, чем самая сильная боязнь, не только в медицине, но и в любой другой области. И очень печально, что эту простую истину иногда забывают.
* * *
Пытаясь восстановить в памяти и донести до читателя то, что мне посчастливилось увидеть и узнать о Иване Степановиче за годы нашего с ним знакомства, я чувствую совершенную свою неспособность собрать воедино вce те мелочи, из которых сложилось мое представление об этом человеке.
Слишком он был сложен, слишком из многих элементов состоял его характер, слишком разносторонней была его деятельность, чтобы можно было дать о нем цельное представление, рассказав об отдельных происшествиях и разговорах, сохранившихся в моей памяти. И все же некоторые из них кажутся мне любопытными.