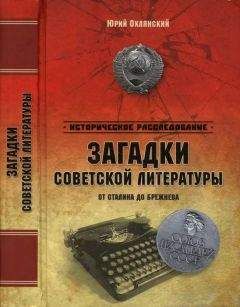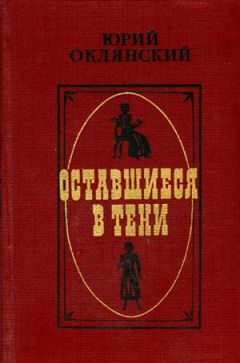Юрий Оклянский - Федин
«Трансвааль» — одна из самых фантастических, озорных и злых вещей Федина. В повести иногда почти самостоятельно, иногда сливаясь на глазах читателя в единое целое, действуют как бы два Сваакера — безжалостный и наглый хищник, деревенский нэпман нового, «европейского» склада и другой Сваакер — фантастический кумир темной крестьянской округи. Секрет этого психологического совмещения — не писательский трюк, придуманный в кабинетной тиши.
У Сваакера несколько биографий. По одной — он эстонец с прибалтийского хутора, по другой — бур из Трансвааля, жертва иноземных завоевателей, на лице которого оставили злодейские отметины немцы либо англичане. Эти и подобные им небылицы, в лад времени и обстановке, Сваакер сочиняет о себе сам. Но загадка состоит в том, чтобы понять, как возникает такой «выдуманный человек», почему ему верят и передают легенды о нем из уст в уста.
Мелкий крестьянин не только труженик, но и частный собственник. Ореол тайны и могущества, который сопутствует делам и поступкам Сваакера, порожден отнюдь не только его собственными усилиями. Это и естественный продукт психики окружающих. Отсталая крестьянская масса находится еще во власти вековых предрассудков. А частнособственническая психология по-своему проявляет затаенные страхи и мечты; она относит к нелюдям слабых и столь же легко выдумывает для себя сверхчеловеков из среды самых удачливых и богатых. В своем воображении она до неузнаваемости преувеличивает их копеечные доблести, раздувая мелкое до размеров фантастических, приписывает им едва ли не чудодейственные свойства, укрупняет саму их корысть, измышляет для них некие легендарные жития. Словом, подменяя реального эксплуататора мифом, она творит культ удачливого дельца. Так ловкий предприниматель и лицедей Вильям Сваакер в коллективной крестьянской фантазии, питаемой молвой и слухами, разрастается в фигуру почти надреальную. И рядом с подлинным возникает другой — мифический Сваакер.
Если говорить о ближайшем прицеле повести, то автор «Трансвааля» изобличал одну из разновидностей ожившего в период нэпа кулачества, показывал социальные и психологические истоки легенд вокруг новоявленных «культуртрегеров» в деревне.
Федина привлекали в первую очередь не накопительские махинации «красного заводчика», хотя и о них не раз идет речь в повести, а особенности натуры Сваакера в соотнесении с психологией хуторских крестьян, причины, которые делали его уездным «маяком культуры» и кумиром здешней округи. Частнособственнические устремления, темнота, политическая незрелость, косность, патриархальная доверчивость хуторян, как показывает художник, создают условия для демагогии, ловких ухищрений, показных благодеяний, с помощью которых обделывает свои делишки и процветает Сваакер. И это притом, что те же мужики близки к разгадке Сваакера, когда называют его «каменной просвирой» или пускают о нем липкое словцо, произносимое, правда, «с восхищением и с завистью»: «Устервился жить, подлец!»
«Меня интересовала не социальная сторона явлений, а биологическая, интимная сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожидание сказки, родом своим вышедшей из лесной глуши и манившей человека назад, в глушь, — пояснял позже Федин свой замысел. — Среди хуторских чаяний возникали дикие, почти величественные уродства, пройти мимо них не мог бы ни один художник, и повестью „Трансвааль“ я отдал им должное в своей книге о деревне». С особенностями места действия, содержания и сатирического жанра «Трансвааля» и ие считалась вульгарно-социологическая критика, не находя в повести расхожих плакатных изображений кулака с винтовочным обрезом и положительных героев передового лагеря.
Такие критики упрекали автора «Трансвааля» в «искажении перспектив развития деревни», в пессимизме, в растерянности перед кулачеством. А повесть тем временем жила и действовала.
Живое подобие Сваакера — Юлиус Саарек — после выхода отдельного издания ездил по магазинам Смоленской губернии и скупал «Трансвааль» Федина, чтобы скрыть от людей, уничтожить книгу…
Между тем сам Федин никогда не видел этого человека в глаза. Лишь в 1962 году, в канун Нового года, краевед М.И. Погодин подарил ему старинную фотографию 1914–1915 годов. Юлиус Андресович стоит на ней, молодцеватый, в черной широкополой шляпе и сюртуке, со стеком в руках. На обороте портрета Федин сделал пометку, подтверждающую, что личных встреч с этим человеком у него не было: «Изображен на портрете небезызвестный г-н Саарек, заочно, — т. е. по рассказам знавших Саарека, — послуживший мне прототипом Вильяма Сваакера, героя рассказа „Трансвааль“.
Федин писал повесть, отталкиваясь от устных рассказов. Возникновению художественного замысла способствовали два случая.
„Захудалый и несчастный мужичонко из деревни Вититнево, пережидая со мной дождь в лесу, около „самогонного завода“, — вспоминал позже Федин, — с упоением рассказал мне восхитительные приключения „из жизни бедного мельника Саарека“. После этого я начал пристально расспрашивать в деревнях о „Трансваале“…“
Окончательное решение писать возникло после рассказов неизвестного попутчика во время возвращения со Смоленщины осенью 1925 года. „Я встретил случайно одного человека, — сообщал в конце октября Федин Соколову-Микитову, — оказавшегося соседом М.И. Погодина по имению. Сразу нашлась общая тема. Саарек! Я такого наслышался, что решил непременно писать о Саареке. Хорош, черт его взял! Это не совсем „деревня“, поэтому должно получиться хорошо, как ты думаешь?“
„Не совсем деревня“ означает вот что: Саарек живет в здешней глухомани, но принадлежит к кругу новой уездной городской буржуазии, хорошо известной Федину, поворот темы — о взаимоотношениях „города“ и „деревни“ — отчетливо различим для художника.
Реального Саарека Федин не видел в глаза точно так же, между прочим, как никогда не бывал в заштатном городке Наровчате (Пензенская область), родине своей матери, избранном местом действия другого крупного произведения сборника — повести „Наровчатовская хроника“.
Если иметь в виду, как близко знал Федин в жизни Прокопа или Проску, с каким интересом встречал каждую новую подробность о них в письмах И. Соколова-Микитова, с какой почти очерковой документальностью (нередко даже под собственными именами) запечатлел их в рассказах, то такое вроде бы небрежение к прототипам на сей раз, в повестях, может показаться, по видимости, нелогичным.
Дело заключается в художественной природе обеих повестей, близкой и родственной по духу.
Развивающие сюжет персонажи (в „Наровчатовской хронике“ — ряженый двойник А.С. Пушкина — Афанасий Сергеевич Пушкин, волнующий умы обывательского уездного захолустья первых послереволюционных лет) в обоих произведениях — „люди выдуманные“, полумифические, сами сочиняющие свои „жития“, причудливо преображаемые коллективной фантазией, молвой и слухами, так или иначе наделенные элементами чудодейственной магии в сознании окружающей среды. По самому жанру это отчасти сатирические фантасмагории. Поэтому строгая документальность не только в воплощении, но и в предварительном накоплении материала тут заведомо неуместна. Окрестная молва и слухи об этих людях для писателя, может быть, даже более интересны, чем они сами.