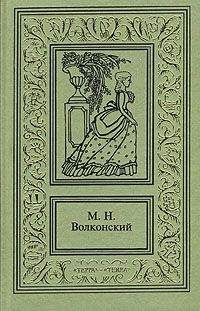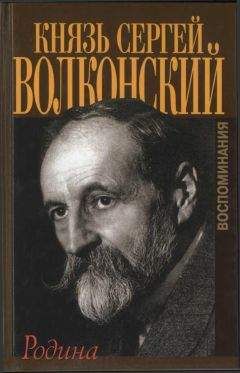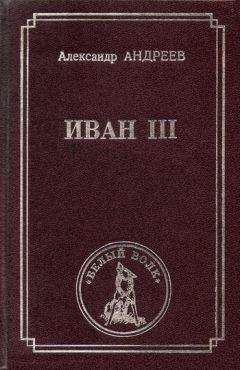Елена Дубинец - Князь Андрей Волконский. Партитура жизни
Пьесы 19-го опуса Шёнберг сымпровизировал за несколько минут и тут же их записал.
Он их написал в связи со смертью Малера. В этот день он узнал о кончине Малера и был потрясен этим, и последняя пьеса – это похоронный колокол.
А струнное трио – замечательное сочинение – связано с сердцем. Шёнберг написал это трио, когда у него в больнице остановилось сердце и ему сделали укол. В трио есть момент, где скрипка звучит очень высоко на фортиссимо, – там он почувствовал этот укол. Трио было связано с тем его состоянием, когда он чуть не умер.
Если исполнители знают, что это место символизирует укол, они, видимо, иначе исполняют?
Разумеется. Хотя тогда можно прийти к выводу, что музыка у Шуберта была грустная, потому что у него был сифилис.
Отступлений от правила о воплощении содержания в музыке полно. Скажем, Лист сначала написал свои «Прелюды», а потом придумал для них программу. Пендерецкий написал свою знаменитую «Тренодию памяти жертв Хиросимы» как обычную пьесу, а когда ее не приняли в печать, придумал броское название, и пьеса тут же оказалась купленной издательством.
Все эти «лунные сонаты» – это ведь не Бетховен назвал их так. Нравится это людям, нужно им это. Это надо преодолевать. Лучше – чтобы было эмоциональное восприятие, когда чувства идут и трогает музыка.
Вот и история Пяти пьес для оркестра подобна. Шёнберг не дал этим пьесам названий, а глава издательства «Петерс» очень его об этом просил, чтобы проще было издать, – мол, публике это нужно, она привыкла, чтобы программа была. Надо дать названия, тогда мы уж точно напечатаем. Издатель специально приехал из Лейпцига, пригласил Шёнберга в очень хороший ресторан, накормил его, напоил и уговорил дать названия. Так они были добавлены по настоянию издательства. Все уцепились за название одной из пьес, «Farben». Многие убеждены, что в этой пьесе есть всего один аккорд и что меняется окраска этого аккорда, но на самом деле там канон, который никто не слышит и не хочет слышать. Надо смотреть ноты, и тогда можно понять, что происходит.
А вообще, очевидно, что даже произведения Шёнберга 20-х годов надо слушать с нотами, тогда можно получить наслаждение.
При аналитическом восприятии человек знает музыку и может услышать форму и то, что там происходит. Но есть опасность, что тогда он может потерять остальное восприятие – непосредственно чувственное. Надо добиваться самого высшего состояния восприятия, а именно синтетического, когда можно совместить все эти этажи в одном. Для этого нужен большой многолетний опыт. Это относится не только к публике, но и к любому музыканту.
У меня самого ушло много лет на то, чтобы научиться слышать все вместе. Единственное, чего у меня никогда не было, – это ассоциативного восприятия; может быть, только в детстве. Я этим никогда не болел. Хотя иногда мне подсказывали. Иногда и сам автор подсказывает – как, например, в прелюдиях Дебюсси или у Шумана.
В такой музыке, как ХТК, трудно представить, чтобы были ассоциации – правда, Рихтер умудрился их найти. По-моему, он заразился у Нейгауза, который этим страдал. Ведерников ведь тоже учился у Нейгауза и позволял себе недобро отзываться о тех моментах, когда Нейгауз начинал об этом говорить. Помню, мы были на каком-то концерте, где играли позднего Брамса, и в какой-то момент Нейгауз ко мне наклонился и шепнул: «Сады Альгамбры!» При чем тут Брамс?
Нейгауз меня очень любил. Мне говорили, что единственное, чего он не прощает, – это когда плохо говорят о Шопене. А я высказался, но он не порвал со мной отношений, по-прежнему ласково принимал. Он сказал другим, что это должно остаться на совести Волконского.
Музыка и социальная жизнь
Вы стремитесь оценивать музыку только с логических позиций?
Нет. Я учитываю и социальный фактор, но он не является решающим. Было бы грустно, если бы он был решающим. Есть некоторые люди, которые залезают в политику и свой талант приносят на службу политике. В частности, коммунистические композиторы – Курт Вайль и прочие – это сделали. Они были талантливы, но сознательно отказались от ученой музыки. Эйслер даже осуждал Шёнберга за то, что тот не понимает, что нужно бороться за освобождение пролетариата. Это было и во Франции, и в России – был же там РАПМ. Коммуняки и в Америке хорошо жили. Курт Вайль, Эйслер, Брехт. Все «леваки» прекрасно устроились и жили припеваючи, а после войны переехали в ГДР. Эйслер стал там композитором номер один. У Бертольта Брехта был австрийский паспорт, это был ловкий человек. Он сказал: «Когда правительство с народом не сходится, надо менять народ». Кошмар.
А Цемлинский, который был в Европе дирижером и успешным композитором, после эмиграции в Америку просто голодал. Хуже всех было Бартоку, который ужасно бедствовал. На его похороны пришли три человека. Хиндемит спасся преподаванием, и Шёнберг тоже, даже дом смог купить. Но пенсия у него была маленькая, потому что он недостаточно много лет работал в Америке.
Пабло Неруда менял мнение как перчатки. При Сталине он писал такие стихи во славу Сталина, что переплюнул всех советских. А потом, когда Хрущев произнес разгромную речь, он стал восхвалять Хрущева. Был абсолютно беспринципным. Он получал огромные субсидии в СССР, ведь всех этих людей там печатали миллионными тиражами. Вы думаете, Арагон не знал о ГУЛАГе? Знал. Он был циник. Его Эльза была сестрой Лили Брик, они все время ездили в Москву. Но он делал вид, что ничего не знал.
Социальная жизнь очень связана с музыкой…
Раньше я никогда не связывал музыку с действительностью. У меня это недавно появилось, потому что вроде бы действительно так получается. Скажем, Великую чуму 1370 года нельзя обойти. Декамерон и Месса Нотр-Дам появились одновременно, и все это последствия чумы. Погибла половина Европы. Страшное дело. В городе Орвиетто каждый день отмечали, сколько умерло, а потом прекратили, потому что некому было отмечать – целый город умер.
Влияние социальной жизни всегда прослеживалось. Бетховен был бы невозможен без Наполеона, а Шнитке – без советской власти.
Совершенно верно. Не говоря уже о Шостаковиче. Даже у Шуберта чувствуется военное начало и Наполеон.
Так, может быть, все-таки было бы оправданно воспринимать музыку, исходя не только из структурных соображений? Ведь композитор отражает то, что вокруг него.
Это справедливо только по отношению к XIX веку. Единственное, что людей до этого забавляло, – это пение птиц. И это очень рано началось. У Ландини был маленький органчик (органетта), его можно было носить с собой и в саду играть. Помощника не нужно, меха самому можно было опускать. Ландини приглашали, он начинал играть, и птицы немедленно замолкали. Свидетель написал, что потом птицы вдруг начинали подражать Ландини. Это предвосхищает то отношение между музыкой и птицами, которое доходит до Мессиана.