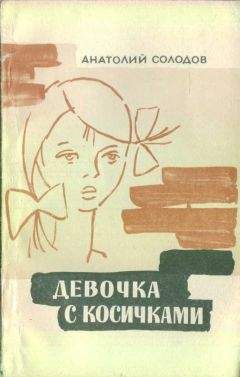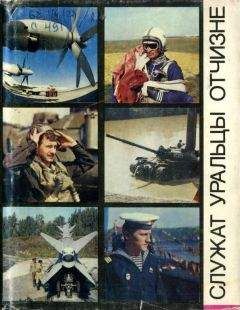Эммануил Фейгин - Здравствуй, Чапичев!
— А штаны? — спросил я.
Чапичев ответил не сразу, он долго отхаркивался, отфыркивался, отплевывался, видимо, здорово наглотался дыма.
— Сам не знаю, куда девались штаны, — сказал он огорченно, когда наконец смог заговорить. — Кажется, положил их на табуретку, а там их нет. Пропали штаны.
— Тяпа, — обругал я друга. — Как же ты теперь без штанов людям покажешься? А это что? — спросил я, указывая на тетрадь.
— Так, тетрадка, потом скажу.
К утру, когда мы все собрались в правлении колхоза, кто-то из местных комсомольцев принес Якову брюки. Облачившись в них, Чапичев довольно рассмеялся.
— Ну теперь я снова человек. — И тут же, заботливо расправив мятую тетрадь, спрятал ее в карман.
— А ты мне так и не сказал, что у тебя в этой тетради, — напомнил я.
— Ничего особенного.
— А все же?
— Стихи…
— Для живой газеты?
— Нет, это для себя. Лирика.
— Вот это новость! Раньше такого за тобой не водилось.
— А теперь завелось.
— Покажешь?
— Не стоит. Ничего хорошего пока нет. Каракули и по форме и по содержанию. Ерунда, одним словом.
— Так чего ж ты за этой ерундой в огонь полез? Не понимаю. Штаны оставил, а тетрадь с ерундой вытащил?
— Так это все-таки стихи, — ответил Яков. — Пусть плохие, пусть ерундовые, но все же стихи. А раз стихи, значит, часть души.
— Так уж и часть души…
— Вот именно, часть души. Моей души. А кто же будет спасать дрянные штаны, оставляя в огне душу? Дурак я, что ли, по-твоему?
— Нет, ты не дурак.
— То-то же.
Мы пробыли на Арабатской Стрелке еще несколько дней. Приехал из Джанкоя следователь. Худой, крупнозубый, с чахоточным блеском в рыжеватых колючих глазах, он долго и настырно опрашивал нас о всех, казалось бы, пятистепенных обстоятельствах пожара, но когда я поинтересовался, кто же, по его мнению, поджег усадьбу, он раздраженно прервал меня:
— Парадом здесь, молодой человек, командую я. И все вопросы задаю я. Ваш номер восемь, когда нужно, спросим.
Так и до сих пор я не знаю, кто же подверг нас тогда на Арабатке этому первому в нашей жизни испытанию огнем.
ПОХИЩЕНИЕ ПОПОВНЫ
Железнодорожный клуб закрыли на ремонт. Свободные вечера мы теперь проводили в городском парке. Близилась осень, начался листопад. Кажется, именно этим парк и приобрел для нас какую-то особую прелесть. Мы бродили по аллеям, по мягкому ковру опавшей листвы и сами не слышали своих шагов. А до этого так противно, так надоедливо скрипел и скрипел под ногами крупный морской песок. Может, потому, что ковер из листвы приглушал наши шаги, мы и сами притихли, меньше пели, меньше орали и дурачились. Иной раз мы разговаривали чуть ли не шепотом, боясь нарушить тишину. И в этой тишине так же бесшумно распалась наша буйная и громкоголосая прежде ватага. Сначала один из парней откололся и уединился в отдаленной аллее с девушкой, затем другой, потом третий… К концу недели мы с Яковом остались вдвоем. Но мы-то уж держались друг за дружку крепко. Я потому, что «зазноба» моя жила в Феодосии, в маленьком двухэтажном татарском домике, у подножия старой Генуэзской башни, потому что непоколебимо был верен приказу: «Чтоб не смотрел ни на одну… А если посмотришь, чтоб глаза твои лопнули». А Яков? Яков после крушения своей первой любви и слышать не хотел о чем-либо подобном. Он очень похорошел за лето, красота его стала какой-то тревожно-вызывающей, и многие джанкойские девицы лишились покоя, безнадежно мечтая о недоступном и неприступном Чапичеве. Чего только не делали бедные девушки, чтобы привлечь внимание черноокого красавца! И все впустую.
Но однажды под вечер, разыскивая в аллеях парка Якова, я увидел его с незнакомой девушкой. Они очень странно сидели на скамейке: девушка на одном конце, Яков на другом. Между ними на скамейке лежали опавшие листья платана.
Яков что-то говорил горячо, возмущенно и даже жестикулировал больше обычного, а девушка молчала, глядела куда-то в сторону и, казалось, вовсе его не слушала. Я хотел свернуть в боковую аллею, но Яков увидел меня и позвал:
— Иди сюда.
Я нехотя приблизился к скамье.
— Знакомьтесь, Поля. Это мой друг…
Девушка подняла на меня недоверчивые глаза, и они мне сразу не понравились: «Злюка».
Я назвал себя. Девушка протянула мне руку. Рука была маленькая, хрупкая, с нервными, тонкими пальцами, смуглая до черноты и очень горячая. Уголек из тлеющего костра, а не рука. Она обжигала почти до боли.
— Садись, — сказал мне Яков. — Знаешь о чем мы тут говорили…
Я не знал и не хотел знать. Я знал только, что третий в таких случаях лишний.
— Ну что стоишь? — снова сказал Яков. Широким гостеприимным жестом он предложил мне сесть посредине. Третий, да еще посредине. Смешно и глупо.
— Спешу, — ответил я на приглашение. — У нас сегодня собрание.
Я был уверен, что Якова рассердит моя явная ложь. А он почему-то поверил мне.
— Собрание? Важное?
— Очень важное, экстренное.
— Что-нибудь случилось?
— Да, случилось. Ну, всего хорошего.
Ни Якова, ни девушку ни чуточки не огорчил мой уход. А я очень огорчился. С горечью думал о том, что, в сущности, все в жизни держится на тоненькой, тонюсенькой ниточке — мужская гордость, женская неприступность, дружба… Мне так хорошо было вдвоем с Яковом. И откуда только взялась эта девушка! Неприязнь к Поле росла во мне с каждым мгновением. Была бы хоть красивой, а то ведь смотреть не на что. Таких невидных чернявых девчонок у нас в Джанкое полным-полно, хоть пруд пруди. А эта, к тому же какая-то старомодная. Вот именно — старомодная. Чего стоят ее черная глухая кофточка с высоким стоячим воротником, ее коричневая шляпка, украшенная черными кожаными цветами. Ужас! Ослеп, что ли, Яшка. На него такие девчонки заглядываются, а он…
Я не знал, куда себя деть от скуки в тот вечер. У меня еще не было никакой потребности в одиночестве, я его просто страшился. Погулял немного по улицам — надоело, попробовал читать — отвратительной, тягучей скукой дохнуло на меня со страниц книги, от чужой, далекой и ничем не интересной мне жизни книжных героев. И я, чего уже давно не бывало со мной, лег спать в половине девятого вечера. К черту Чапичева и его черномазую Полю! Никогда не думал, что мой друг такой легкомысленный. Нашел на кого променять товарища!
Кажется, я едва только задремал, когда раздался стук в окно, нетерпеливый, настойчивый. Кого это еще принесло? Я открыл окно, выглянул. На улице стоял Яков.
— Чего тебе?
— Выдь на минутку.
— Я уже спать лег, разделся.