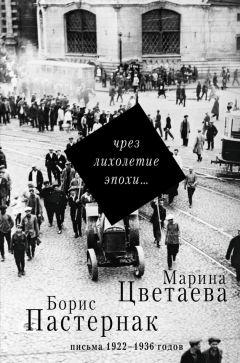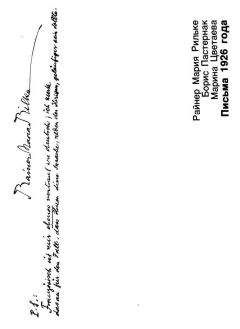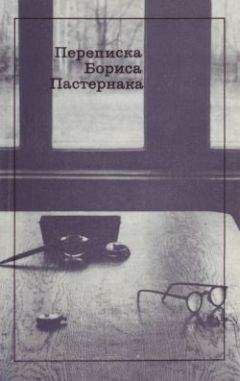Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис Леонидович
Борис, на карточке ты чудный. Поскольку Маяковский воля, постольку ты – душа. Лицо души. Я тебя прекрасно помню – у нас в темноте с письмом Эренбурга. Когда я говорила с тобой, я подымала голову, а ты опускал. Этот встречный жест помню.
Следующее письмо будет о Вандее, о том, как живу.
Итак, через год, сама помогу выехать – трезво, весело, в сознании правоты, заработанного права. Я в восторге от твоего решения (вопроса). Мне, чтобы любить, нужно, чтобы другой был кругом прав. Непогрешим в чутье. – Вот.
Но одна просьба: робкая: хоть пуст<ой> конв<ерт>, но хоть адрес твоей рукой. Не вычеркивай меня окончательно на целый год. Этого не должно. Будь моей редкой радостью, моим скупым божеством (о, это слово я люблю и за него стою, это не «гениальность»), но – будь. Не бросай совсем, не проваливай безвозвратно в рассвет.
Не знаю, когда выедет Эренбург. Вещи сданы. Прошу его еще о синей лампе – для невралгии, – у тебя ведь есть боковое электричество (в стене, для стоячей лампы?).
Кончаю. Иду в сад к сыну.
А Е.Ю. – улыбаюсь. Ты просто не так прочел. Я написала: ты м.б. ее любишь (т. е. допускаешь, принимаешь, переносишь, расположен) – ты прочел: ты м.б. ее любил. (Расположение ведь не проходит.) Т. е. расположение в прошлом, т. е. не расположение в прошлом, а любовь (употребляемый в прошлом, глагол весом / грозен). Милый Борис, ты не мог любить такую (расположенным можно быть к кому угодно, просто поворот тела в сторону, как за ужином), ты мог (можешь) любить себе обратное, но равно-сильное. Она недостаточно улица, чтоб ты ее любил, недостаточно площадь, не блоковская Катька ведь, просто дама. И дама – недостаточно.
И – улыбка ширится – Ланн. Стало быть, орудует вещественными доказательствами. (Книжки, надписи, письма – что еще?) Да, <оборвано>
Где будешь летом? Где твои будут летом? Как здоровье мальчика? Твой первый оттиск.
Письмо 51
1 мая 1926 г.
Цветаева – Пастернаку
Борис! Что ты со мной делаешь? Сам просишь не писать, а сам шлешь мне книгу с надписью, от которых (книги и надписи) <пропуск одного-двух слов>. Но я буду тверда, не буду писать о тебе и себе, не буду писать сейчас, поступлю как друг.
Какие замечательные стихи из Поверх барьеров! Борис, эта книга у меня должна быть. Если нет, достань, выкради у знакомых. Первое – Метель. Я в такой метели (городе, возникавшем только в метель, или метели, возникавшей только в таком пригороде) была однажды с Т.Ф.Скрябиной – за постным маслом, которого (только повод! Не может же метель приглашать – та́к, да еще в такое утилитарное время!), конечно, не оказалось. Нас сшибало с ног, захлестывало, зацеловывало. Дощатые заборчики и испуганно-счастливые глаза Скрябиной, узнававшей и мужа и сына / дуновение / родное.
Письмо 52
5 мая 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
На днях придет твой ответ. Может, он потребует телеграфного отклика. Тогда этот огромный перерыв перебьется для тебя лающим лаконизмом депеши. Давно, давно, уже не помню когда, пришло твое письмо, последнее из Парижа, с холодком и о Ходасевиче, т. е. виноват: с ответным холодом на мое, о Ходасевиче. В тот день я узнал, что увижу тебя не в St. Gilles. Это случилось до письма, и холод письма облегчил мне тяжесть этого сознанья.
И все же, ты можешь обложить меня льдом, а оно невыносимо. Прости, что я так невозможно разлетелся тогда. Этого не следовало делать. Это должно было остаться моей возрождающей тайной до самого свиданья с тобой. Я мог и должен был скрыть от тебя до встречи, что никогда теперь не смогу уже разлюбить тебя, что ты мое единственное законное небо и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее. Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю.
И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, то есть допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобой, то есть с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись.
Я ничего почти не говорил, и все стало известно Жене, главное же объем и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке, день за днем, до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страданьи, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованный тобой, я ее охватываю не с меньшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах. – Если удастся, я ее с мальчиком снаряжу на лето к сестре в Мюнхен. Если за лето успею, осенью поеду сам. Если нет, предстоит страшная, душевно бездонная зима, и потом, наконец, весна. Дольших сроков на свете не имеется, они недопустимы и невообразимы.
Что значила твоя последняя фраза в анкете: «Жизнь – вокзал; скоро уеду; куда – не скажу»? (У меня анкеты нет, привожу на память.) Я не обеспокоился, понял как провозглашенье бессмертия, т. е. ударенье на нем, на секрете и на вере, а не на буквальной скорости, как поняла Ася, залив меня безысходною тревогой (потому что это пониманье твоей сестры). На этот вопрос не забудь ответить. Ах, как иногда глупо сболтнется! Ведь я не о том прошу. Но скажи, что я понял правильно, а если (чего вообразить не в силах) это не так, то умоляю тебя, переуверуй! На днях приходит письмо от сестры из Мюнхена. Заклинает и уверяет меня, что в этом году не умру. Письмо, по мимолетном недоуменьи, восстановило в моей памяти две-три недавних бессонницы, когда этот страх меня преследовал. Очевидно, я ей об этом проврался. Но письма припомнить не могу, и – не ответ ее, так и не знал бы о его существованьи. Но такая буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает. Перечислить нет возможности. Вдруг я стал тут для всех хорош. Вспомнили – и посыпалось, со всех концов. Как ты по-особенному хороша, когда исключительно случайно проносишься в этом вихре участия. Напр<имер>, то-то и то-то обо мне. И затем, вдруг (надо прибавить, что это говорит человек, даже не знающий, знакомы мы с тобой или нет) восхищенное сообщенье, что Версты (твои) ходят в списках по Москве. Или иногда непрямо, письмо о том, что со мной что-то, верно, происходит в последнее время, потому что корреспондент или корреспондентка часто видят меня во сне и пр. и пр. Точно ты завела или ко мне приставили тут специальных пифий. Я до бессмыслицы стал путать два слова: я и ты.
8 мая 1926 г.
Благодарю и верю. Как трудно писать! Сколько его накатывало и расходовалось в эту неделю. Ты указала берега. О, насколько я твой, Марина! Везде, везде.
Вот он, твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же. Я двадцать раз уезжал, и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда превосходишь представленье, даже внушенное обожаньем.
Одному человеку я на днях это выразил так. Мне пишет человек, которого я люблю до самозабвенья. Но это такой большой человек и это так широко свидетельствуется в письмах, что иногда становится больно скрывать их от других. Эта боль и называется счастьем.
Ты всего не знаешь. Ты усадила меня за работу. Но как благодарить тебя за то, что, облегчая мне этим разлуку, ты третий месяц уподобляешь часть людей и обстоятельств себе. Я говорю о тебе, как о начале. Как это объяснить? Обращаются как с драгоценностью. Как с вещью, заряженной золотом, любовно и осторожно. И так как я заряжен тобой, я люблю их всех за это обращенье. За чутье, за подчиненье тому, чем я дымлюсь, очевидно.