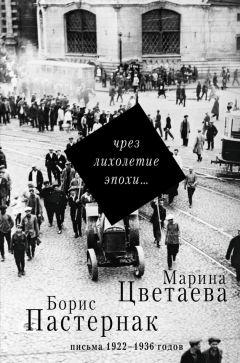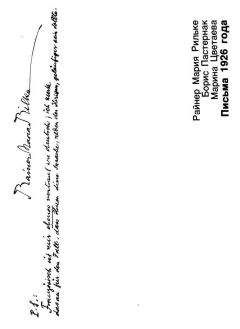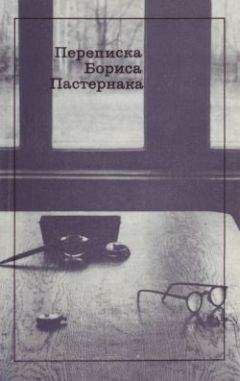Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис Леонидович
Обо мне, Борис, когда помру, напиши не Реквием, а гимн <вариант: оду> на рождение.
Requiem – покойся. Я от покоя устала, от насильного сна.
Очень хорошо – с грудными городами на груди.
Стихов мне не пиши. То, что можно бы – не посмеешь (мою единственность!), личное – у нас с тобой захват больше. Пиши большие вещи, Шмидта, Реквием, пиши себя, так ты больше со мной <над строкой: – всё равно говоришь – мне>.
За стих спасибо. Если расшифр<овать> – хорош особенно конец.
Наша основная разница. Ты очень добр. Я – нет. – Я пламень и камень. Сушь – вот моя основа, всегда, в любви и вражде.
Ты хочешь ввести в последнем письме элем<ент> благоразумия (большие паузы между словами, чтобы утишить дыхание). Ты в нем как главный уговаривающий.
Отметить:
Еще одна разница между нами: у тебя есть объективный (для всех) словарь, у меня его нет.
Третья строка предпоследнего 4-стишия – зря. Мишурный – интеллигентское слово, ставшее ирреальностью <вариант: только переносным>. Кроме того, гуща и мишурный – вразрез. Не надо. Замени.
Да! Еще. Стихи мне оставь для разлуки. Сейчас встреча. (Все стихи о разлуке!) Встреча в здесь – разлука, п.ч. здесь мы разъединены, не сегодня, а всегда, «навсегда». Сейчас – полно и цельно, встреча на всех парах и на всех парусах.
И все-таки – зову тебя, хотя с падающим сердцем. И через это перейдем.
После этого мне нечего уже будет ждать выше. Бо́льшего не бывает. (Эти слова я через всю жизнь слышу к с<ебе>. Говорю их впервые.)
Письмо 49
20 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой
Завтра я встану другим, скреплюсь, возьмусь за работу. А эту ночь проведу с тобой. Наконец-то они разошлись по двум комнатам. Я тебе начинал сегодня пять писем. Мальчик болен гриппом, Женя при нем, еще – брат и невестка. Входили, выходили. Поток слов, которые ты пила и выкачивала из меня, прерывался. Мы отскакивали друг от друга. Письма летели к черту, одно за другим. О как ты чудно работаешь! Но не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить.
Вчера я прочел в твоей анкете о матери. Все это удивительно! Моя в 12 лет играла концерт Шопена, и кажется, Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петерб<ургской> консерватории. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу (была репетиция, слушали музыканты) со сл<овами>: «Вот как это надо играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. Она жива. Я, верно, в нее. Она воплощенье скромности, в ней ни следа вундеркиндства, все отдала мужу, детям, нам. Но это я пишу о тебе. Утром, проснувшись, думал об анкете, о твоем детстве и с совершенно мокрым лицом напевал их, балладу за балладой, и ноктюрны, все, в чем ты выварилась и я. И ревел. Мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей.
Мне понадобилось написать Волошину и Ахматовой. Два запечатанных конверта скоро легли в сторону. Меня потянуло поговорить с тобой, и тут я измерил разницу. Точно ветер пробежал по волосам. Мне именно стало невмоготу писать тебе, а захотелось выйти взглянуть, что сделалось с воздухом и небом, чуть только поэт назвал поэта. Вот колодка, вот мы друг для друга, вот голодный рацион, которого мы должны держаться год, если ты проживешь и обещаешь мне, что я тоже выживу. Родной мой друг, я не шучу, я никогда не говорил так. Уверь меня, что ты на меня полагаешься, что ты доверилась моему чутью. Я расскажу тебе, откуда эта оттяжка, отчего еще не я с тобой, а летняя ночь, И<лья> Г<ригорьевич>, Л<юбовь> М<ихайловна> и прочая. Я это объясню потом.
В противоположность твоим сновиденьям я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. В противоположность моим обычным, сон был молодой, спокойный, безболезненно перешедший в пробужденье. Это было на днях. Это был последний день, что я называл себя и тебя счастьем. Мне снилось начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть, и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз такие коридоры. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты, я легко пробежал по взволнованным светом пролетам и скатился по лестнице. Действительно, в чем-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной, а крылатой, планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал. Кем ты была? Беглым обликом всего, что в переломное мгновенье чувства доводит женщину на твоей руке до размеров физической несовместимости с человеческим ростом, точно это не человек, а небо в прелести всех плывших когда-либо над тобой облаков. Но это было рудиментом твоего обаянья. Твоя красота, переданная на фотографии, – красота в твоем особом случае – т. е. явленность большого духа в женщине ударяла в твое окруженье прежде, чем я попадал в эти волны блаженствующего света и звучности. Это были состоянья мира, вызванные в нем тобою. Это трудно объяснить, но это-то и придавало сновиденью черту счастливости и бесконечности. Это была гармония, впервые в жизни пережитая с силой, какая до сих пор бывала только у боли. Я находился в мире, полном страсти к тебе, и не слышал резкости и дымности собственной. Это было первее первой любви и проще всего на свете. Я любил тебя так, как в жизни только думал любить, давно, давно, до числового ряда. Ты была абсолютно прекрасна. Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья, то есть в антропоморфной однородности воздуха и часа – Цветаевой, то есть языком, открывшимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ. Ты была громадным поэтом в поле большого влюбленного обожанья, то есть предельной человечностью стихии <подчеркнуто дважды>, не среди людей или в человеческом словоупотребленьи («стихийность»), а у себя на месте.
Отчего, когда два года назад я в той же волне пустился собирать тебя и стал натыкаться на Ланов, я Ланам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор быть может и нынешнему твоему возраженью, что у Ланов есть вес в твоем сердце. Отчего для меня существует только С.Я. и моя жизнь.
Ты же пишешь о женщине с мертвыми пальцами: ты м.б. любил ее? И это ты видишь меня и говоришь, что знаешь? Но ведь даже и если бы Э<льза> Ю<рьевна> была полною себе противоположностью, то и тогда требовалось бы нечто исключительное, возвращающее от отдельных лет и лиц к первооснове жизни, ко входу, к началу – иными словами, требовалась бы ты – чтобы вывести меня из линии и довести до чего-нибудь достойного именованья. Я ведь не только женат, я еще и я, и я полуребенок. Т. е. у меня нет в этом частоты, которая грозила бы опасностью жизнеискаженья. И опять, понимаешь ли ты? Есть несколько случаев, когда Женя страдала по недостаточным поводам, т. е. когда я начинал любить и не долюбливал даже до первого шага. Есть тысячи женских лиц, которых мне бы пришлось любить, если бы я давал себе волю. Я готов нестись на всякое проявленье женственности, и видимостью ее кишит мой обиход. Может быть, в восполненье этой черты я рожден и сложился на сильном, почти абсолютном тормозе.
Так вот, в том, что Э.Ю. не было даже среди недостаточных поводов, причинявших страданье Жене, и вся замечательность ее вероятной антипатии ко мне. Я ее видел два-три раза тут в обществе, чаще чужом, чем своем. При моем появлении она во всеуслышанье заявляла, что она так, мол, и так – а я на нее даже не обращаю вниманья. Я конфузился ее бестактности, ссылался на то, что я вообще тюфяк или бездушная кукла, и говорил все, что в таких случаях говорится. Мне пришлось у ней побывать не из-за ее напоминаний, а из-за твоего Есенина, по тому естественному закону, который до фантастики преувеличивает цену всего, что из чужого мира помогает как-нибудь мне с тобой. Она мне читала свою прозу, и я ее хвалил, где она этого заслуживала. Она не без способностей, но я сказал ей, что писателя и текст создает третье измеренье – глубина, которая подымает сказанное и показанное вертикально, над страницей, и, что важнее – отделяет книгу от автора. Я сказал ей, что этого у нее нет и что это, верно, приходит с работой. Я не знаю, зачем ей вздумалось искать или стараться симпатизировать мне. Действительных причин думать дружить со мной у ней нет. Я хочу сказать, что по всему я должен был бы быть нулем для нее или безразличен, как большинству тут, тронутому тем же противоречьем подражанья мне и пр. Неприятной стала она мне после твоего письма, и ты, конечно, мне поверишь, что не из-за слов о Гапоне (она его слышала только один раз, и я не ей его читал), которые не новы для меня, а потому, что явилась из ночи в твое письмо, в первое твое письмо, сделавшее мне невыносимым дальнейшее существованье без тебя.