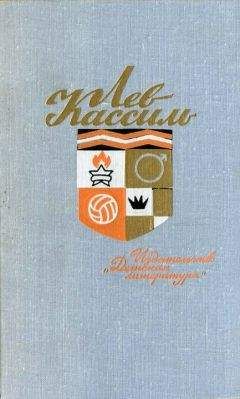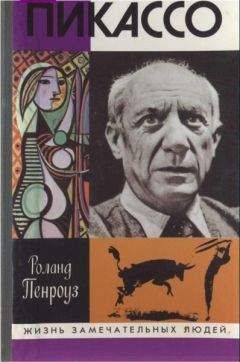Винсент Ван Гог. Человек и художник - Дмитриева Нина Александровна
Ткацкий челнок попал туда не случайно. Первое, чем Винсент занялся в Нюэнене, была серия ткачей — десять полотен и четырнадцать рисунков и акварелей. Художник чувствовал себя в долгу перед ткачами. «Впрочем, — добавлял он, — покамест мне еще не нужно писать ткачей, хотя я, вне всякого сомнения, рано или поздно возьмусь за них» (п. 229). И теперь взялся. Переполненный эмоциями пространства и простора, он, по контрасту, мог в полной мере ощутить трагедию замкнутости, тесной клетки, куда засажен ткач — покорный пленник станка.
Изображая одинокого работника в его каморке с глинобитным полом и низким потолком, куда свет проникает через маленькое окно, падая сбоку, освещая челнок, белую ткань и руки ткача, Ван Гог стремился передать это трагическое состояние пожизненной заточенности — не «психологией» самого работника (он работает спокойно, сосредоточенно и буднично) а ощущением сжатого пространства, тенью и светом. Свет из окна — как слабый проблеск недосягаемого просторного мира. Иногда в окне виднеется старая башенная церковь на крестьянском кладбище — напоминание о вечности, единственное обещание покоя человеку в клетке.
И еще — станок: овеществленная судьба ткача, его клетка, его западня. Ткацкий станок Винсент тщательно зарисовывал, найдя для этой цели старинный дубовый стан с вырезанной датой — 1730 год. Как истый голландец, он был неравнодушен к деревянным сооружениям — мельницам, подъемным мостам, шлюзам, инструментам; такие вещи он рисовать любил, знал в них толк и всегда изображал, отдавая полный отчет в их устройстве и механизме действия, с точностью почти педантической. Они для него полумеханизмы, полусущества. Ткацкий станок — безжалостное существо. Он корчит рожи, гримасничает. В его палках, подставках, навесах чудятся подобия вытаращенных глаз, оскаленных зубов, разинутых ртов. Станок так же по-своему живой, как все становится живым под кистью Ван Гога.
Вещи говорили с ним — не только природа. Он вглядывался в неодушевленную вещь, ловя возникающие ассоциации, пока она не начинала казаться неким организмом. Он не любил ровных поверхностей, прямых линий, симметрии — того, что не в состоянии напомнить об органической жизни. Новый ткацкий станок его не интересовал: интересен старый, захватанный руками до лоска, с погнутыми стертыми перекладинами, станок цвета времени, местами рыжий, местами черный, отливающий черно-плесенной зеленью, как скользкое брюхо какого-нибудь морского зверя.
Интересно сравнивать работы Ван Гога с фотографиями местностей и предметов, которые он изображал. Будь это работы голландского или французского периода — неизменно поражают две особенности: с одной стороны, неожиданно большая точность (иногда вплоть до второстепенных деталей) передачи натуры, с другой — удивительная преображенность ее. Преображенность зависит не от опускания частностей, не от перемены композиции — если Ван Гог что-то опускает, меняет, то незначительно: самый заядлый «копиист» изменял бы не меньше [58]. Она зависит более всего от этой пронзительности видения сущего как живого, от способности созерцать работу времени и, можно сказать, драматическую историю любого предмета — дерева, стула, дома, башмаков, станка.
Пишет ли он водяную мельницу близ Нюэнена — она выглядит корявым таинственным обиталищем, словно вылезшим со дна речного, таща за собой бахрому тины. А на фотографии мы видим аккуратную прозаическую постройку с шиферной крышей. Пишет ли протестантскую церковь, где совершал службы его отец, — добросовестнейше воспроизводя архитектуру с ее пропорциями, он стирает геометричность, скрадывает грани, углы, заставляет линии вибрировать, «расшатывает» сооружение и роднит его с деревьями, растущими возле. И небольшая корректная церковка становится подобием лесного капища, окутанного зеленоватым туманом, окруженного, как огнями свечей, оранжевыми вспышками осенней листвы.
Голландия прямых очертаний, сверхопрятных ухоженных домиков, Голландия, аккуратно распланированная и словно расчерченная на клеточки, — этой Голландии на полотнах Ван Гога нет: такой он ее не видел, не воспринимал. Ее не было и у Рембрандта и Рейсдаля, хотя она ощущается, например, в картинах Питера де Хооха. Можно по-разному чувствовать душу местности. Ван Гог видел свою страну по-рембрандтовски живописно — не с фасада. За упорядоченным фасадом ему виделась клубящаяся бурлящая работа «духа жизни», ткущего материю бытия. Художник предпочитал задворки чистым улицам, хижины — коттеджам, соломенные крыши — шиферным, поношенные вещи — новым, искривленные стволы деревьев — прямым, а грубые или «поврежденные» лица — миловидным не просто потому, что хотел показать тяжелую жизнь бедняков, которым сострадал, — хотя поистине сострадал. Он как художник любил формы в брожении, становлении, в напряженности экзистенции. Здесь он находил экспрессию, душу, истину — а значит, красоту: красота-то и захватывала. Почему, в самом деле, Винсент с таким увлечением писал ткачей? Потому ли, что сочувствовал им, получавшим за свой тяжкий труд примерно 20 франков в месяц (тогда как сумма, получаемая Винсентом от Тео, составляла 150–200 франков)? Если бы только это — почему же не помогать беднякам иначе, хотя бы так, как он помогал им в Боринаже, будучи проповедником? Почему Винсент променял это служение на художественное? Потому что: «Я видел их (ткачей. — Н. Д.), когда был в Па-де-Кале — это изумительно красиво» (п. 229).
Наивно думать, что Ван Гог открыл для себя красоту мира, только начав писать светлыми красками. И будто бы весь секрет живописной красоты — в светлой палитре! Палитра Рубенса светлее палитры Рембрандта; разве отсюда следует, что Рембрандт как живописец слабее? И в светлой, и в темной гамме, и в открытом насыщенном цвете, и в монохромном колорите во все времена создавались прекрасные произведения — и посредственные тоже.
Эту простую истину Ван Гог всегда помнил — отсюда кажущаяся «эклектичность» его вкусов, широкая терпимость к разным направлениям и поискам в искусстве. Разговоры об устарелости той или иной манеры его до крайности раздражали. «Как легко люди бросаются словами „нам этого больше не нужно“ — и что это за глупое уродливое выражение» (п. 247). Так он говорил в Гааге, но и в Арле, энтузиаст цвета, он упрямо заявлял: «У Милле почти совсем нет цвета, а какой он, черт возьми, художник!» (п. 590). Ибо «когда человек ясно выражает то, что хочет выразить, — разве этого, строго говоря, недостаточно?» (п. 371).
Впрочем, сам Ван Гог в Нюэнене уже сознательно стремился выразить то, что он хочет, именно цветом, но цветом в синтезе с «клер-обскюр» и предпочтительно густым, глубоким до темноты. Он чутко вслушивался тогда в низкие, басовые звучания цветовой клавиатуры. Краски, которыми его снабжал провинциальный торговец художественными принадлежностями, не отличались высоким качеством; нынешний вид «Едоков картофеля» имеет, несомненно, мало общего с первоначальным, да и другие картины маслом, сильно потемнев, обесцветились. Но посмотрим хотя бы на лучше сохранившуюся акварель — один из вариантов «Пасторского сада», с осенними деревьями и прудом. Только слепой мог бы сказать, что она сделана не колористом. Какой удивительной красоты эта вещь, как звучны и насыщены ее цвета, богатые модуляциями! Основной интенсивный контраст ржаво-оранжевой листвы и темно-синего, почти черно-синего пруда (черно-синим тронуты и стволы деревьев) дополняется более мягкими отношениями сумрачно-голубого, желтовато-зеленого и блекло-желтого, а кое-где вспыхивают удары чистого желтого, взятого несмешанным, в полную силу, и проблески ярко-оранжевого; в одном месте — кусочек белого (платье женщины, стоящей у воды).
Этот небольшой сравнительно лист (38×49) производит впечатление грандиозного — как по ощущению пространства, так и по силе и гармонии цвета. О многих ли позднейших вещах Ван Гога, выполненных в технике акварели, можно сказать, что они его превосходят? Нюэненский пасторский сад вдохновил художника на один из значительнейших в его творчестве пейзажных циклов. Как он говорил, ему хотелось схватить «полустаринный, полудеревенский характер» этого сада и передать «тревожное состояние то ли одиночества, то ли предчувствия» (п. 336). Он писал и рисовал его только зимой и осенью, но не летом, выбирая разные аспекты, меняя точку зрения, — но везде на горизонте видна завершающим акцентом кладбищенская башня.