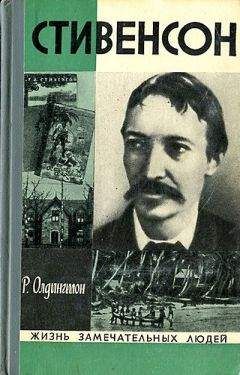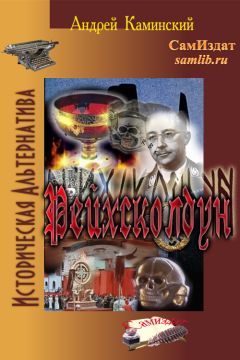Ричард Олдингтон - Стивенсон. Портрет бунтаря
«Каждое утро между восемью и половиной десятого утра можно увидеть, как стройный джентльмен в длинном узком пальто, с засунутой за пазуху книгой выходит из дома № 608 по Буш-стрит и бодрым шагом спускается по Пауэлл-стрит. Джентльмен этот Р. Л. С, а книга имеет отношение к Бенджамену Франклину, о котором он собирается написать один из своих восхитительных очерков. Миновав Пауэлл-стрит, он пересекает рыночную площадь и вновь спускается, теперь по шестой авеню, не куда-нибудь, а в филиал кофейни на Пайн-стрит. Я полагаю, он не задумываясь пошел бы просто в кофейню на Пайн-стрит, если бы смог ее найти. В филиале он усаживается за столик, покрытый клеенкой, и раскормленный слуга, выходец из Силезии (по правде говоря, вышедший оттуда пока одной ногой), ставит перед ним чашку кофе и кладет булочку с катышком масла — все, бог свидетель, прекрасного качества. Еще недавно Р. Л. С. находил такое количество масла недостаточным, но теперь он довел точность до такого совершенства, что последняя частичка масла исчезает одновременно с последним куском булочки. За эту закуску он платит десять центов или пять пенсов полновесной английской монетой.
Полчаса спустя обитатели Буш-стрит имеют возможность видеть, как этот стройный джентльмен, вооруженный топориком, подобно Вашингтону, щиплет лучину на растопку и разбивает уголь для камина. Он делает это на подоконнике почти на глазах у почтенной публики, но причиной тому отнюдь не любовь к славе, хотя, не будем скрывать, он гордится тем, как умело он управляется с топором (который он упрямо называет «колун»), и не устает удивляться тому, что у него все еще целы пальцы. Причина совсем в ином: под подоконником находится единственная крепкая балка во всем домишке, и от ударов такой же силы в других частях комнаты его хибарка могла бы провалиться в тартарары. Затем он в течение трех-четырех часов занимается каким-то таинственным делом, в котором участвует склянка с чернилами. Однако он не мажет ими свои сапоги, ибо единственную находящуюся в его владении пару трудно назвать черной, и кожа имеет натуральный цвет, почти не видный за напластованиями почтенной от возраста грязи. Младший сынишка квартирной хозяйки всякий раз, когда странный обитатель их дома приходит или уходит, что случается несколько раз на день, замечает: «А вот и наш пишатель». Быть может, невинный младенец с золотыми кудрями нашел ключ к тайне? Индивид, о котором идет речь, настолько беден, что вполне может принадлежать к этому славному сословию.
Позже мы встречаем его в ресторане некоего Донадье, расположенном на Буш-стрит, между Дюпоном и Кирни, где за четыре монеты, то есть за пятьдесят центов, можно получить обильный обед, полбутылки вина, кофе и бренди. Вино подается в еще не початой бутылке, и странно, даже печально наблюдать, как жадно наш джентльмен старается не упустить ни единой капли из предназначенной ему половины и в то же время как тщательно он следит, чтобы не захватить ни единой капли из половины, которая ему не принадлежит. Частично это объясняется тем, что стоит ему перешагнуть границу, и бах — десяти центов как не бывало. Он вновь вооружен книгой, но его лучшим друзьям будет прискорбно узнать, что он изменил серьезным занятиям, за которыми они его видели утром. Теперь он с явным интересом изучает подвиги некоего Рокамболя, описанные покойным виконтом Понсоном дю Террайем.[83] Произведение это, отличающееся огромными размерами, он разделил на отдельные части, видимо для того, чтобы удобнее было носить его с собой.
Затем наш джентльмен отправляется на прогулку, куда — сказать трудно. Но около половины пятого, когда из окон дома № 608 по Буш-стрит уже струится свет, его можно видеть либо за письмами, либо вновь погруженным в тот же таинственный ритуал, что и днем. Около шести он вновь в филиале кофейни, где вторично отягощает свою совесть тратой пяти центов на булочку и кофе. Вечер он уделяет чтению, а в одиннадцать — половине двенадцатого жизнь этого таинственного и свирепого существа окутывается мраком».
Поскольку непосредственно за этим следовала фраза о том, будто Колвин и Хенли считают все написанное им в Америке «галиматьей», возможно, Стивенсон хотел показать своим английским корреспондентам, что в его руке перо действует лучше, чем в их. Конечно, слабым местом вышеприведенного образчика стивенсоновского мастерства является то, что посвящен он Стивенсону. Никто не упрекнет его в пренебрежении к этой теме, имеющей для него неодолимое очарование; но, с другой стороны, своя душа, как и своя рубашка, ближе к телу. Тот, кто не интересуется собой, вряд ли способен будет рассказать что-нибудь заслуживающее внимания обо всех остальных людях; возможно, именно по этой причине в мировой литературе такой любовью пользуются эгоисты. Как заметил доктор Джонсон (пожалуй, немного грубо для джентльмена, который гордился своей вежливостью), если вам наплевать на свое брюхо, вы скорее всего станете плевать и на весь мир.
Естественно, такое хорошее настроение, а тем более такая «роскошная жизнь» не могли длиться вечно. Ежедневные расходы Стивенсона сократились до двадцати пяти центов и даже до меньшей суммы. В марте серьезно заболей сынишка его хозяйки, и Стивенсон, очень этим расстроенный, взялся ухаживать за ним. Он решил, что ребенок умирает, впал в истерику и написал Колвину совершенно безумное письмо. Мальчик остался жив, но сам Луис серьезно заболел и слег на несколько недель. Если бы ему не посчастливилось найти хорошего доктора, а у Фэнни не хватило бы здравого смысла пренебречь условностями и взять его к себе и терпения его выходить, он бы умер. К малярии прибавилось первое горловое кровотечение — Стивенсона настиг туберкулез.
«Я был очень болен, на грани скоротечной чахотки, — холодный пот, приводящие меня в полное изнеможение приступы кашля, такой упадок сил, что я не мог говорить, лихорадка и все прочие безобразные симптомы этой болезни…»
Вероятно, это была его «судьба», но «романтику» в ней обнаружить трудно, тем более что из-за болезни он в течение многих недель совершенно не мог работать. К тому же, как ни странно сравнивать чахотку и больные зубы, ему, помимо всего, необходимо было срочно привести в порядок рот.
Казалось бы, союз Фэнни и Луиса при ее и его бедности чистое безумие. Однако — как прав был Хенли — у Луиса и мысли не возникало отказаться от брака, ради которого в первую очередь он предпринял свое мучительное путешествие. В письме к Госсу (от 16 апреля) Стивенсон с полной уверенностью говорит о «будущей жене». Знал ли он в течение всего этого времени, что ему опять удастся «упасть на все четыре ноги» и, как всегда, две из них будут отцовские? Так или иначе, в мае он получил из Эдинбурга телеграмму следующего содержания: «Рассчитывай на двести пятьдесят фунтов в год». «Послание с небес», как назвал ее Луис. Каким образом он этого добился? Говорят, будто Фэнни «воззвала» к мистеру Стивенсону, но мне кажется куда более вероятным, что посредником между отцом и сыном был известный нам опытный законник и прекрасный друг Чарлз Бэкстер. Письма Луиса к нему, несомненно, предназначались для родителей, и просьба продать книги и переслать деньги оказалась последней каплей. Легко можно представить полные слез глаза миссис Стивенсон, жалобно устремленные на мужа, в душе которого отцовская любовь борется с оскорбленной гордостью, гневом и желанием соблюсти приличия. Говорят, что в письме, предпосланном первому чеку, содержалось требование отложить женитьбу на возможно долгий срок. Если и так, требование это выполнено не было — наши измученные влюбленные сочетались браком в мае 1880 года. Никто не удивится, узнав, что церемония была торжественная, но невеселая. Самым примечательным, помимо того, что Фэнни назвалась вдовой, был подарок пастору, сделанный Стивенсоном, — экземпляр книги мистера Томаса Стивенсона, посвященный защите христианства. Был ли этот иронический жест таким уж случайным?