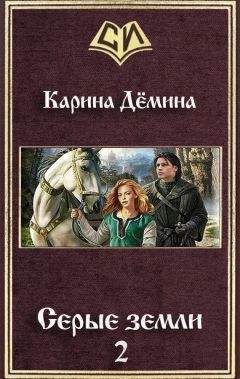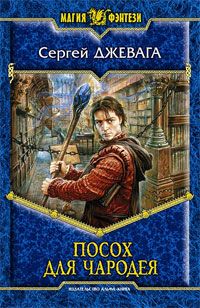Анри Труайя - Николай Гоголь
«Теперь же я буду вас беспокоить вот какою просьбою: если зайдет обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жи́ва. При этом случае выбраните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. И сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть свои ножки, завесть речь о другом, как-то о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно…»[110]
«Совершенно с вами согласен, – ответил в тот же день Пушкин. – Я тотчас же пойду увещевать Уварова, и я поговорю с ним о Вашей смерти. Потом, искусно и незаметно переменив тему, я перейду к бессмертию, которое ожидает его. Кто знает? Может быть, мы и достигнем результата!»
Демарш А. С. Пушкина не возымел немедленных последствий. Министр обещал подумать, изучить досье, вновь рассмотреть вопрос, когда представится новая возможность. Погодин, со своей стороны, предложил Гоголю место ассистента профессора в Московском Университете. Категорический отказ: ассистент кого? ассистент чего? Они полагают, что он может преподавать всемирную историю иначе, чем с высоты настоящей профессорской кафедры? К тому же московский климат годился ему не более, чем климат Санкт-Петербурга. Киев – вот что ему было нужно, Киев с его солнцем и с его студентами. Почему Господь не помогает ему в этом предприятии? В последнее время он писал матери:
«Правили ли вы молебен об успешном ходе фабрики? Если нет, то поручите отцу Ивану отправить молебен, чтобы все дела ваши шли хорошо, а равным образом, чтоб и мои пошли таким чередом, как я думаю!»[111]
Молебен не возымел немедленного действия – ни в том, что касалось кожевенного завода, чья доходность стала практически нулевой, ни в том, что касалось его самого и его удалявшейся мечты о профессорском месте. Должен ли он был заказать его лично, вместо того, чтобы перепоручать это матери? Он был набожен и благочестив, но не особенно посещал церковь. Бог не мог на него сердиться за недостаток усердия.
Отношения Гоголя со Всемогущим были очень свободными. Он был для него неким консультантом по любому поводу, в любое время и в любом месте. Матери, которая упрекала его в нерегулярном посещении церкви, он отвечал резко:
«Я уважаю очень угодников Божиих, но молиться Богу все равно, в каком бы месте вы ни молились. Он вездесущ, стало быть, Он везде слышит молитву, и Ему столько молитва нужна, сколько нужны дела наши».[112]
Уязвленный, он продолжал – весьма нерегулярно – преподавать элементарные начала истории девочкам в Институте. Этим проказницам в светло-коричневой форме; всем этим воробьиным мозгам; и к тому же своим сестрам! Какая насмешка по сравнению с обширной аудиторией, которую он надеялся покорить в Киеве! По его просьбе ему вернули его жалованье в размере тысячи двухсот рублей с 1 января, оставляя при этом сестер Гоголь воспитанницами в учреждении в качестве «особого вознаграждения». Наконец, министр предложил ему читать курс по средневековой истории в Санкт-Петербурге. К сожалению, он и там будет записан как профессор-ассистент, а не как штатный преподаватель. Но могло ли это сбить с него спесь? Им повезло, что он нуждается в деньгах! Проглотив досаду, он согласился и был введен в должность указом от 24 июля 1834 года. Однако он не признался своим друзьям, каково его настоящее звание. Когда он смирился с необходимостью сообщить им эту новость, слово «ассистент» осталось в чернильнице, тогда как слово «кафедра» естественным образом вышло из-под пера.
«Я на время решился занять здесь кафедру истории, и именно средних веков, – писал он Погодину».[113]
И в письме матери:
«Я теперь только профессор здешнего университета и больше никакой не имею должности, потому что и не имею желания занять и не имею времени…»[114]
Тем не менее Гоголь не отказался от мечты о Киеве. Его перевод туда казался ему даже обеспеченным. Когда министр ознакомится с его успехом у столичных студентов, он не сможет отказать ему в кафедре в университете по его выбору. «Итак, я решился принять предложение остаться на год в здешнем университете, получая тем более прав к занятию в Киеве»,[115] – сообщал он Максимовичу.
Он даже поручил последнему, едва обосновавшемуся в Киеве, найти ему дом для покупки, «если можно, с садиком, где-нибудь на горе, чтобы хоть кусочек Днепра был виден из него». Однако М. А. Максимович, выбитый из колеи своим новым местом жительства и своей новой должностью, спрашивал себя, будет ли он способен преподавать историю литературы – он, который до сих пор занимался ею лишь время от времени, да и то – для собственного удовольствия. Имеет ли он моральное право взять на себя роль учителя перед такой доверчивой юностью? Не лучше ли будет оставаться в пределах своей специальности – ботаники? Эти муки совести, повторявшиеся из письма в письмо, поражали Гоголя, который, со своей стороны, ничего подобного не ощущал.
«Ради бога, не предавайся грустным мыслям, будь весел, как весел теперь я, решивший, что все на свете трын-трава. Терпением и хладнокровием все достанешь. Еще просьба: ради всего нашего, ради нашей Украйны, ради отцовских могил, не сиди над книгами. Черт возми, если они не служат теперь для тебя к тому только, чтобы отемнить свои мысли. Будь таков, как ты есть, говори свое, и то как можно поменьше. Студенты твои такой глупый будет народ, особливо сначала, что, право, совестно будет для них слишком много трудиться. Но, впрочем, лучше всего ты делай эстетические с ними разборы. Это для них полезнее всего, скорее разовьет их ум, и тебе будет приятно. Так делают все благоразумные люди. Таким образом поступает и Плетнев, который нашел – и весьма справедливо, – что все теории – совершенный вздор и ни к чему не ведут. Он теперь бросил все прежде читанные лекции и делает с ними в классе эстетические разборы, толкует и наталкивает их морду на хорошее. Он очень удивляется тому, что ты затрудняешься, и советует, со своей стороны, тебе работать прямо с плеча, что придется. Вкус у тебя хорош. Словесность русскую ты знаешь лучше всех педагогов-толмачей; итак, чего тебе больше. Послушай: ради бога, занимайся поменьше этой гнилью…»[116]
Эта «дребедень» – нужно было, однако, чтобы он и сам ею занимался, так как в начале сентября должен был начаться новый учебный год в Университете. Он боялся этих будущих слушателей, тоска в ожидании будущей работы сжимала ему грудь, – совершенно подобная той, которую испытывал Максимович. Сколь захватывающим ему казалось прокладывать широкие дороги сквозь массивы исторических событий, столь же скучным он расценивал опускаться до мелких деталей хронологии. Он чувствовал себя королем в области прожектов и рабом – в исполнении. И поскольку ни его история Украины, ни его всемирная история не вышли еще из фазы зарождения, это его должно было утомлять и в истории Средних веков. И эта обязанность, как нарочно, свалилась ему на голову именно тогда, когда он вновь почувствовал вкус к романной литературе. На протяжении последней весны он закончил несколько рассказов, в числе которых – «Портрет», «Вий», «Тарас Бульба»… Другие сюжеты вертелись у него голове. Но двое или трое римских пап, Чингисхан, Фредерик Барбрусс, Александр Невский преграждали путь воображаемым персонажам.