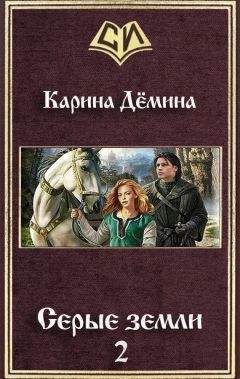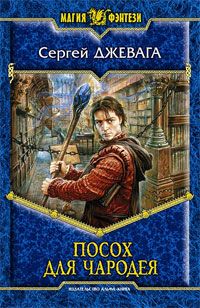Анри Труайя - Николай Гоголь
«Если бы был из тех, каких немало у нас на первых местах, я бы не решился просить и представлять ему мои мысли. Как и поступил я назад тому три года, когда мог бы занять место в Московском Университете, которое мне предлагали,[107] но тогда был Ливен, человек ума недалекого. Грустно, когда некому оценить нашей работы. Но Уваров собаку съел. Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гёте. Не говорю уже о мыслях его по случаю экзаметров, где столько философического познания языка и ума быстрого. – Я уверен, что у нас он более сделает, нежели Гизо во Франции. Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты».[108]
Если Уваров не отдаст предпочтение после подобного умащивания – это приведет в отчаяние всю дипломатию! Но нужно было не торопиться. В сферах высшей администрации решения вызревали всегда медленно. В канун наступления нового года экзальтация Гоголя приняла мистическую окраску. Раз с ним не совершилось ничего великого в 1833 году, значит, Господь приберег ему славу на год 1834-й. Как-то, морозной ночью, согнувшись над своим пюпитром, при слабом свете свечи, он подвел итог двенадцати истекших месяцев: ни одной значительной публикации, отсутствие денег, долги; мать, вынужденная переоборудовать кожевенный завод и отослать обратно «австрийского специалиста», который ее обобрал. В очередной раз заложили Васильевку. И, однако, все это не имело никакого значения перед чувством безмерной надежды, которое возрождалось в нем.
«Великая, торжественная минута… У ног моих шумит мое прошедшее; надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой Гений! О, не скрывайся от меня! Пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь передо мною, 1834-й? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о, разбуди меня тогда! Не дай им овладеть мною!
Таинственный, неизъяснимый 1834-й! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, – этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками, со своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. – Там ли? – О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой Гений! Ты, от колыбели еще пролетавший со своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои небесные очи! Я на коленях. Я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу… Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!..»
Этот торжественный призыв, брошенный в ночь с 31 декабря 1833 года на 1 января года 1834, был искренним, несмотря на его высокопарный тон. Будучи во власти сильных эмоций, Гоголь не умел выразить их просто. Как другие проливают слезы, так он проливал слова.
В начале нового года он был настолько уверен в том, что получит страстно желаемую кафедру, что писал Максимовичу:
«В одном письме ты пишешь за Киев. Я думаю ехать. Дела, кажется, мои идут на лад…»[109]
И, хотя история Украины была еще в состоянии замысла плана лекций, 30 января 1834 года в «Северной пчеле» Гоголь издал объявление, изложенное следующим образом:
«Новые книги. Издание „Истории малороссийских казаков“ Н. Гоголя, автора „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. До настоящего времени еще не существовало полной и удовлетворительной истории Малороссии и ее народа… Я решил взять эту задачу на себя… В течение примерно пяти лет я собирал – с большим прилежанием – материалы, имеющие отношение к этому краю… Половина моей книги почти готова, но я откладываю публикацию первых томов, предполагая, что существуют многочисленные источники и документы, мною упущенные, которые должны находиться где-либо во владении частных лиц. И поэтому, обращаясь ко всем, я настоятельно прошу тех, кто имеет у себя какие бы то ни было материалы: хроники, воспоминания, песни, рассказы „бандуристов“, деловые бумаги…, переправить их мне – если не оригиналы, то хотя бы копии… по следующему адресу…»
Он не должен был получить никакого ответа. Но вот весомая компенсация за его чистую любовь – министр С. С. Уваров опубликовал его «План преподавания всемирной истории» в журнале «Министерства народного просвещения», и императрица пожаловала ему кольцо, украшенное бриллиантами, «в награду за его выдающиеся труды». На этот раз он более не сомневался, что выиграет дело. Он уже готовился с помощью Якима к своему грядущему отъезду. Однако новость сразила его как молния: несмотря на все обещания, некий Владимир Цых, личный кандидат попечителя Киевского Университета, был назначен на кафедру, о которой он, Гоголь, так настойчиво просил. Оглушенный известием, он реагировал на него проклятиями, вопросами, мольбами, обращая их на все четыре стороны света.
«Что ты пишешь про Цыха? – писал он Максимовичу 29 марта 1834 года. – Разве есть какое-нибудь официальное об этом известие? Министр мне обещал непременно это место и требовал даже, чтоб я сейчас подавал просьбу, но я останавливаюсь затем, что мне дают только адъюнкта…»
Спустя несколько дней, Гоголь побудил того же Максимовича написать Е. Ф. Брадке, попечителю Киевского Университета, чтобы попробовать уладить дела:
«Да кстати обо мне: знаешь ли, что представления Брадке чуть ли не больше значат, нежели наших здешних ходатаев. Когда будешь писать к Брадке, намекни ему обо мне вот каким образом: что вы бы, дескать, хорошо сделали, если бы залучили в университет Гоголя, что ты не знаешь никого, кто бы владел языком преподавания, и тому подобные скромные похвалы, как будто вскользь…»
И А. С. Пушкину:
«Теперь же я буду вас беспокоить вот какою просьбою: если зайдет обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жи́ва. При этом случае выбраните меня хорошенько за то, что живу здесь и не убираюсь сей же час вон из города; что доктора велели ехать сей же час и стараться захватить там это время. И сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть свои ножки, завесть речь о другом, как-то о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно…»[110]