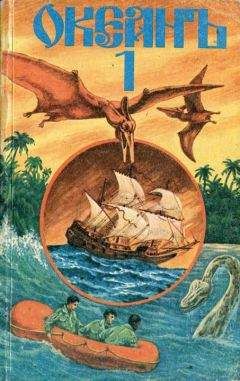Игорь Оболенский - Мемуары наших грузин. Нани, Буба, Софико
Все мужчины были немножечко влюблены в маму. Ну что вы хотете, она же была великой женщиной! Немирович признался ей после того, как увидел ее «Даму с камелиями»: «Я видел двух дам — Элеонору Дузе и Сару Бернар, но вы заставили меня забыть о них. Вы — великая актриса».
Я тогда была совсем маленькой. Но помню, как мы, дети, забирались на деревья и наблюдали за взрослыми. Влюбленный в маму великий Василий Качалов читал стихи. На память он подарил ей свою фотографию, которую надписал: «Вечно в вас влюбленный».
В школе я была сорванцом, сорвиголовой. Всегда была такой. Мне очень повезло, что я дочь своих родителей. Отец и мать — совершенно разные люди, и я от каждого впитала что-то свое.
Да, они были не похожи друг на друга, но у них было главное — их любовь. Мама пережила отца на 11 лет. И все эти годы писала ему письма. У них все равно продолжался диалог.
А рассказать вам, какими были их реальные диалоги? Однажды, пока папа был в командировке, мама, чтобы расплатиться с долгами, продала его американский «крайслер» и купила «Победу». На которой и отправилась встречать мужа на вокзал. В следующий раз, опять-таки во время папиной командировки, мама продала «Победу» и встречала отца уже на маленьком «Москвиче».
— А потом ты будешь встречать меня на мотоцикле? — спросил папа. — Не угадал! — ответила мама. — На велосипеде.
Свидетелем отношений Верико и Михаила, а также внутренних порядков в доме на Пикрис-горе был племянник Анджапаридзе Георгий Данелия, описавший происходившее:
«Иногда, когда приезжали родственники, мне стелили в зале. Там на стенах висело много картин. Особенно мне нравилась картина Пиросмани — белые барашки на темном склоне. Когда я вспоминаю дом Верико, я вспоминаю этих барашков, освещенных луной.
Но спать в зале я не любил. Потому что каждый раз ровно в шесть утра в кабинете Чиаурели (двери которого выходили в зал) начинал петь Карузо: это дядя Миша проснулся, поставил свою любимую пластинку и уже начал что-то мастерить.
В его кабинете, кроме письменного стола и стеллажа с книгами, стоял рабочий стол с инструментами, тисками и токарным станком. И дядя Миша все время что-то мастерил: то мебель для загородного дома, то нарды. И меня к этой деятельности приобщил: под руководством дяди Миши я выточил мундштук из плексигласа, который потом подарил Буте (этим именем внуки называли мать Верико и Мери Анджапаридзе. — Прим. И.О.).
Сын зеленщика Михаил Чиаурели в жизни добился многого. Он был скульптором, киноактером, режиссером, слесарем, плотником, хорошо играл на гитаре и очень хорошо, профессионально пел: и романсы (которых он знал бесчисленное множество), и оперные арии (он занимался в консерватории вокалом).
Когда я говорю, что на мое творчество оказал громадное влияние Михаил Чиаурели, многие удивляются, что может быть общего между постановщиком фильма «Падение Берлина» и режиссером фильма «Я шагаю по Москве»…
Но они никогда не видели первые фильмы Чиаурели «Хабарда» и «Последний маскарад» и главное — не слышали его рассказов. Рассказчиком дядя Миша был потрясающим, другого такого я не встречал…
Дядя Миша рассказывал обо всем с юмором. Даже об очень грустном.
Из рассказов Чиаурели. Когда умер старый Эдишер, Чиаурели был за границей. До Тифлиса добрался в день похорон. Заходит он в свой двор, посредине двора — стол, на столе — гроб, вокруг, на некотором расстоянии, стоят родные и друзья. На ступеньках веранды музыканты: зурна, барабан-доли и певец Рантик — из хинкальной на Плеханова. Зурна выводит печальную мелодию, и Рантик тоненьким фальцетом поет.
Около гроба сидит мать дяди Миши, вся в черном, голова опущена, лица не видно. Дядя Миша подошел к ней, обнял — и почувствовал, что она мелко-мелко дрожит. «Плачет, конечно».
— Мама, я здесь. Я приехал.
Мать, не поднимая головы, погладила его руку, и тихо, чтобы другим не было слышно, сказала:
— Хорошо, что ты приехал, сынок. Умоляю, скажи Рантику, чтобы замолчал, а то я от смеха описаюсь.
На бумаге этот рассказ много теряет, потому что Чиаурели воспроизводил пение Рантика, — и мы понимали, что от смеха точно можно было описаться. Рантик пел, слегка подвывая, а какие-то слова вдруг громко выкрикивал и подпрыгивал… Нет, это надо было слышать и видеть.
Верико и дядя Миша официально расписались, когда Чиаурели исполнилось семьдесят пять (и то только потому, что дяде Мише было лень писать завещание). А когда дяде Мише стукнуло восемьдесят семь, у них случилась первая сцена ревности: Верико нашла у Чиаурели любовное письмо от одной кинозвезды немого кино… А до этого они жили мирно. Обязанности были четко распределены: дядя Миша зарабатывал и строил — он любил и умел строить. Он построил этот дом Верико, дом в дачном поселке Цхнети, большой дом в Дигоми (деревне, где он родился)… А Верико любила и умела тратить».
А вот еще одно воспоминание:
«Шофер дяди Миши Чиаурели, Профессор, всегда выглядел элегантно, почти как сам дядя Миша, и все время был рядом с хозяином. И когда в Тбилиси приезжали именитые гости (Джон Стейнбек, сын Черчилля, Назым Хикмет), дядя Миша встречал их вместе с Профессором. Так и представлял его гостям:
— Познакомьтесь, это Профессор.
И гости уважительно именовали Михаила Заргарьяна «господин профессор» и никак не могли понять, что это «господин профессор» все время бережно держит в левой руке. А это была крышка от радиатора, Профессор таскал ее с собой: боялся, что сопрут.
Однажды (когда Чиаурели уже не стало) я наблюдал такую сценку. Девять тридцать утра. По залу с антикварной мебелью, по сверкающему фигурному паркету Профессор катит колесо. Открывает дверь в спальню, закатывает туда покрышку и зовет:
— Верико! А Верико!
— Что? — не открывая глаз, сонно спрашивает Верико. Как всякая театральная актриса, она поздно ложится и поздно встает.
— Открой глаза! Посмотри!
Верико приоткрывает один глаз.
— Ну?
— С такой покрышкой можно ездить? Можно?!
— Хороший шофер с такой покрышкой может ездить, а у говновоза любая лопнет, — бурчит Верико.
— Вера Ивлиевна, я вас вожу, — напоминает Профессор.
Верико открывает оба глаза.
— Господи, чем я перед тобой провинилась, что ты окружил меня такими идиотами!..