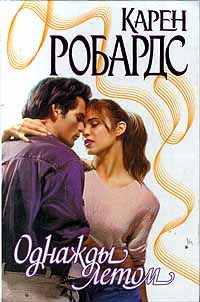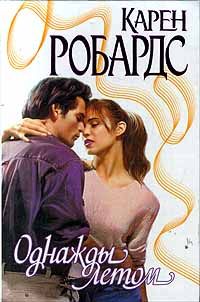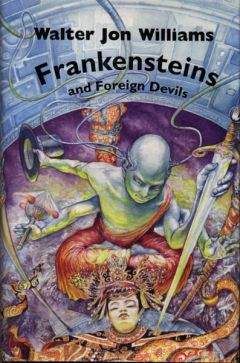Борис Львов-Анохин - Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания
А почему так мало друзей было у него? Ведь он знал много хороших и умных людей. Он был ревнив. Нет, он не жену ревновал, он не пускал в свою домашнюю жизнь никого. Мне кажется, что его юность прошла без дома. Он не любил дом — тесный, шумный, чужой, мещанский. И он искал именно такой дом, который в конце концов и сделал. Не нашел, а сделал сам. Увидел подходящий материал, из которого и сделал свой дом. Лизу он любил и сделал ее, между прочим, такой, какой хотел. Домашней. Уютной. И я полюбила наш дом. Наш жизненный уклад, отношение к вещам, духовный уклад нашего дома. Вот поэтому еще так трудно привыкать к другой жизни — душа не принимает ничего другого, вот и создать не может пока что ничего другого.
Ну и кроме того, я лишена всякого общения с друзьями. Я их лишилась давно, но был Олег.
8 марта 1982 г.
А сейчас я даже совсем не знаю, как жить и зачем. Нет ни работы, ни заботы, ни желаний — нужности во мне никакой. Лиза одинока, будет бросаться в разные стороны, как это уже было однажды, мучиться и страдать, но эти мучения и метания еще хуже тех: тогда была молодость, а сейчас — это уже зрелая умная женщина, а одна все же быть не хочет. Нужна любовь или хотя бы ее видимость. Грустно и тошно все это видеть, понимать и — ничем не помочь.
Год назад — 7.III похоронили Олежечку.
10 марта 1982 г.
Вот была я вчера в кино, смотрела фильм «Карнавал» — наш, двухсерийный и бездарный. Хорошая актриса, плохой режиссер, плохой сценарий — и зеваешь, и смотришь на часы.
Вот ни один сценарист, ни один режиссер не мог заставить Олега кривляться или играть не так, как он хочет. Как это ему было трудно!
Ну что ж, живем дальше. Бедная моя Лизочка! Надо было бы назвать ее другим именем, напр<имер>, Эльвирой. Была бы тру-ля-ля, вроде современных певичек-кривлячек. Но тогда у нее не было бы Олега. А это хоть и недолгое, хоть и трудное, но счастье.
Писать об Олеге? Очень трудно. Никак не найти формы. Все, что придет в голову, что вспомнится? Все дело в том, что я-то мало что могу вспомнить. Домашняя наша жизнь была очень хороша, но что о ней напишешь? А вот Лиза когда-нибудь сможет написать о нем: о поездках на съемки, о местах, где они бывали, тем более что в письмах ко мне все довольно подробно описано.
А я хожу по улицам, смотрю на прохожих мужчин и с удивлением вижу, что ни один молодой человек не идет так, как ходил Олег. У него была удивительная походка. Он шел обычно низко опустив голову, медленно, но очень широким шагом, и казалось, что он где-то не здесь, что он идет в каком-то своем пространстве и думает о чем-то своем.
А дома он был такой уютный и такой удивительно, поразительно чистый. Начиная с глаз и кончая пальцами ног. Редко бывают красивые пальцы на ногах. У него была скульптурная форма ног.
И как он ценил этот домашний уют, как вкусно ходил по своей большой квартире! И дурачился часто, как ребенок. Он и был дома ребенком. И вообще он был ребячлив и, как ребенок, защищался от жизненной скверны — неумело, тратя нервы впустую, обижаясь и обижая других. Он очень страдал, в нем было так много творческих сил, таланта, и ему был закрыт путь, его боялись, а ведь так легко было вызвать у него хорошую добрую улыбку, он так любил юмор, так ценил честных людей, которые умели работать. Ему не везло отчаянно, фатально. И смерть его была какая-то неожиданная, и все-таки тоже фатальная. Он как будто шел к ней — нехотя, но зная, что она близко. Он ее чувствовал, близость ее. А мы — нет! Ах, если бы Лиза почувствовала в последний момент, провожая его вечером 1 марта до лифта, а может быть, даже просто до входной двери. Ну и что? Если бы и почувствовала страх, он бы все равно не дал ей поехать с ним! Он же не знал точно, что именно эта поездка так кончится.
Да, все мы ходим, что-то нас беспокоит, огорчает, а ее приход всегда — как она захочет. Без лишних слов!
«…Человек, который берется за воспоминания, обычно пишет их потому, что он любил и ценил того, о ком пишет, и ему хочется сказать об ушедшем добрые, хорошие слова». (К. М. Симонов. Из эпистоляр<ного> наследия.)
А мне кажется, что не для того пишутся воспоминания, чтобы говорить «добрые и хорошие» слова — таковые говорятся обычно на похоронах, а чтобы дать возможность узнать жизнь этого человека и дать эту жизнь, описав ее как можно полнее и со всех сторон. При чем же здесь «добрые хорошие слова»?
26 марта 1982 г.
Писать о прошлом еще никак не могу — не выходит. Нужно быть спокойнее и без раздражения. А вспоминать и вспоминать.
Но пока жизнь течет такая неуютная, такая неласковая и одинокая, что нет сил на воспоминания. За спиной так много всего и, вероятно, надо все записывать, что вдруг выскакивает из глубин сознания. Сразу хватать и записывать.
Ведь все это когда-нибудь будет историей, даже просто жизнь ничем не замечательных людей — нас, например. Если Земля и дальше будет крутиться, наш 1982 год станет далеким 1982 годом. Что мы делали, как жили, что ели, о чем мечтали, о чем горевали, кого любили, кого не любили.
Да, искусство — «оно больно», и тут уж ничего не поделаешь, когда оно в заскорузлых умах и цепких руках нашей п<артии> и пр<авительства>.
Но оно такое: вдруг возьмешь журнал или книгу и почувствуешь, что оно живет все равно: и не пускают в дверь — оно прет в щель.
А дома тошно да морозно! Вот сейчас сделаю чего-то к чаю, а то совсем за столом сиротливо, особенно если кто придет.
30 марта 1982 г.
Как замечательно точно и даже странновато Лизочка сегодня сказала, что она только сейчас, через год после смерти Алечки поняла, что она сейчас — это не та Лиза, что та Лиза умерла вместе с Олегом. И что поэтому она видит его во сне или в воспоминаниях всегда вместе с собой.
Апрель 1982 г.
Сколько может человек вынести! Утро, вторник 3 марта 1981 года. Я встала рано, солнце светило так ярко, и синицы просили уже корма. Настроение у меня было не просто спокойное, а безмятежно спокойное — какое редко бывает. И так — спокойно и неторопливо я провела на этой чужой даче в Монине почти весь день.
И телефонный звонок, которого я не ждала, меня не испугал, и даже какой-то тусклый голос Лизы меня тоже не испугал. И только выстрел в упор — Олег умер — лишил меня сразу сил. Пропал голос, я бросила трубку, и все во мне сжалось.
А вчера (7.IV), сидя у Олега в кабинете с С. на диване, я вдруг увидела, что на стене не висит самая хорошая фотография Олега, где он крупным планом: его глаза, рука — теперь этот взгляд, как заметила Ахматова, после смерти — стал еще понятнее и страшнее. Кто украл эту фотографию, кто содрал ее со стены? Как это выяснить? И когда? Обычно мы редко заходим в эту комнату, и редко смотрим на фотографии — это тяжело. И поэтому трудно сказать, пропала ли она 3 марта или позже. И у нас больше нет такой!