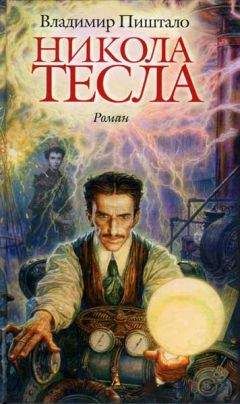Владимир Лорченков - Последний роман
Дедушка Второй идет по полю подсолнечника за сбежавшими от расстрела жиденятами, и ноги его в больших сапогах вязнут в чересчур рыхлой почве, и штык на винтовке покачивается, и Дедушка Второй мечтает найти детей первым. Пристрелит по-быстрому. Тем самым Дедушка Второй собирается спасти их от издевательств капрала, алкоголика Романа Кройтора, чье пристрастие к измывательствам над Иудиным семенем стало притчей во языцах не только их воинской части, но даже, кажется, уже всей румынской армии. Дедушка Второй за гуманную жестокость. Так что он выискивает взглядом щенков, — пожалеть их ему не позволяет мысль о своих детях, с которыми лучше и не думать, что случится, если он откажется выполнять приказы и станет плохо служить Маршалу и Королю. Его призвали в армию буквально на второй день после того, как румынские войска по приказу Маршала пересекли Прут, и первое, что им объяснил в казарме офицер: Маршал не собирается допускать ошибки, которая привела к 1940 году, когда сюда на целый год приперлись русские со своими набившими оскомину всему миру Советами. Евреев и коммунистов вырежут. Русских тоже вырежут, но ими займутся немцы, потому что, — понизив голос, доверительно делится офицер, — русских слишком много для нас, румын. Вот так вот. Раздается крик. Невероятный вопль, от которого в стеблях подсолнечника стынут соки и ярко-желтые цветы бледнеют, а уж про солдат румынской королевской армии и говорить нечего, и они сбиваются в кучу, опасаясь. Вдруг выстрелят? Но крик все еще несется над полем, и солдаты видят, что это какой-то недобитый, — видимо, жид — в черной шляпе, бросается от них через поле, несется зигзагами, видно, нервы не выдержали, и солдаты, посмеиваясь, бегут за жидом, постреливая на ходу. Дедушка Второй целится. Он вот-вот пристрелит Дедушку Первого, который, конечно, вовсе никакой не жид, а просто так получилось, но собрат по оружию задевает большой подсолнух и цветок качается, заслоняя временами мушку, а когда Дедушка Второй меняет позицию, Дедушка Первый уже где-то сбоку. Пали! Снова залп, но крик над полем не умолкает, — видать, дурачок совсем тронулся, посмеиваясь, говорят солдаты, — и они бегут по полю за мужчиной, пока не становится ясно, что недобиток смылся таки. Ничего, встретимся. Смеясь, переговариваясь, делясь впечатлениями, солдаты вновь собираются у края поля, и выходят на дорогу, а оттуда видно, что на тела расстрелянных, — кто не упал с оврага, конечно, — уже уселась хищная птица. Дедушка Второй тайком крестится. Они уходят по направлению к селу, принимать поздравления от местного администратора, и Дедушке Первому, принятому на постой в семью местного зажиточного владельца мельницы, кажется смутно знакомой фигура хозяина. Машет рукой. Поужинав, солдаты ложатся спать, и во сне Дедушка Второй все бежит по полю за маленькими фигурками с жалкими спинками — почему у детей так жалко выглядят именно спины, недоумевает истекающий потом во сне Дедушка Второй, — и убегающие от него во сне дети оглядываются так же беспомощно и испуганно, как и дети, убегавшие от него наяву. Дедушка Второй стонет. Разорались на мою голову оба, шепчет недовольная хозяйка, маленькая баба со всегда поджатыми губами, но этого не слышит ни Дедушка Первый, плачущий во сне, ни Дедушка Второй, который во сне мечется, стонет и кряхтит. Мужчины. С ранних лет они начинают вертеться во сне, ложиться поперек кровати, стучать себя по груди кулаком, храпеть и разговаривать, они хозяева мира, даже когда они на кровати. Бабушка Первая встает, потому что не может спать, и выходит во двор. Сердце тревожно сжимается. Дедушка Второй бежит по полю подсолнечника. Дедушка Второй бежит по огромному полю в Одесской области, куда они вышли, окружив несколько советских частей благодаря блистательному стратегическому замыслу Маршала. Кричит, надрываясь. Русские дерутся как сумасшедшие, и румыны стараются не вступать с ними в прямое столкновение, — лучше обойти и предоставить это немцам, говорит офицер части, где служит Дедушка Второй. Спесь сбита. Лоск сбит, и уже спустя два месяца войны форма на них малость потрепалась — господин Гитлер, понятное дело, почти разбил русских, но если они разбиты, почему они так жестоко и отчаянно бьются с нами здесь, в нескольких тысячах километрах от Москвы? Это жидовская пропаганда! А-а-а! Дедушка Второй бежит за пленными красноармейцами, бросившимися врассыпную с дороги, — по которой их ведут на расстрел под Одессой, — и протыкает штыком одному из них спину, прости меня, Господи. Это был комиссар. Офицер похлопывает Дедушку по плечу и хлопками в ладони собирает солдат, добивающих пленных, пытавшихся сбежать, чего у них не получилось. Маршал шлет телеграммы. Мои воины, сегодня вы совершили невероятное деяние, которое войдет в летопись славных побед Великой Румынии, вы сломали хребет большевизму, диктует Маршал, — как и все румыны охочий до цветастых фраз, это еще от турок, а — Дедушка Второй бежит. Поднимает сапоги. Обувка, кстати, дерьмо, и стоило бы Маршалу подумать о том, чтобы одеть своих солдат получше, бурчит кто-то в окопах, на что Дедушка Второй предлагает ворчуну заткнуться, и сапоги и правда прибывают на следующий день, целый эшелон. Но все забирают немцы. Дедушка Второй бежит от вагона к своему офицеру, но тот сухо и сдержанно велит возвращаться в окоп, и объясняет, что снабжение немецких частей, взявших на себя всю тяжесть, и тому подобное, приоритетны. Вас понял. Дедушка Второй бежит по степи, и ноги его то и дело попадают в дыры от нор — сусликов здесь невероятно много — атакуя окопавшихся на полуострове Крым русских. Здесь ад. Одесса и бои под ней просто Божья благодать в сравнении с тем, что устраивают им здесь эти безумные русские, — они уже проиграли войну, и как настоящие скоты, не в состоянии понять, что если дело твое проиграно, надо сложить оружие и спокойно жить дальше. Ну, кому позволят. Есть категории людей, которым точно не позволят, и Дедушка Второй уже знает, кто это. Спасибо, растолковали. Дедушка Второй бежит посреди колонны, среди которой есть и красноармейцы, — которых шатает, но упасть которым не дают, — и дети, и женщины в смешных платках, и мужчины в гражданском, — все жидовня и партизаны, которых им выдали местные татары, вот кто здорово помогал. Колонна трусит. Кто-то хватается за сердце, кому-то уже дурно, но это не имеет никакого значения, потому что за камнем, куда выбегает колонна во главе с Дедушкой Вторым и замыкаемая еще несколькими солдатами, видно соленое озеро, замерзшее озеро, и крик вырывается из обреченной и все понявшей толпы, увидавшей прорубь. Восточный Крым. Райские места, думает Дедушка Второй, отступая в сторону, справа море Черное, слева море Азовское, а посреди них тонкий перешеек с грязевыми и солеными озерами. Обоснуюсь здесь. Выиграем войну, думает Дедушка Второй, — вернее, добьем тех, кто сопротивляется, потому что война и так выиграна, — это ясно, и куплю землю здесь, наверняка же тут будет Великая Румыния. Людей заталкивают в прорубь. Орут, визжат, жмурятся, кто-то смирился, Дедушка Второй отворачивается, смахивая с глаз слезы, и видит, что какая-то женщина сопротивляется особенно упорно. Спасает. Вытаскивает из толпы. Дает страшного пинка, и та отлетает, ударившись головой о камень, и приходит в себя лишь ночью, когда все уже кончено, и трое ее детей подо льдом. Выживает. После войны становится чем-то вроде местной достопримечательности, ходит каждую ночь зимой к озеру, и воет, и все спрашивает, не замерзли ли их косточки, и это описывает писатель Эфраим Севела, который отдыхал в здешних местах две недели. Стандартный отпуск. Правда, Севела описывает женщину русской женой еврея, которую пощадили, а детей прикончили, и это неправда, потому что она была русская жена русского бойца Советской Армии. Ох уж эти евреи, качают головой подо льдом мертвые дети, мало им, что ли, своих мучеников? Ох уж эти русские, качают головами евреи, да разве кто-нибудь страдал так, как мы? Дедушка Второй ни о чем не думает. Он выполняет приказы. Бежит, высоко поднимая ноги, по побережью грязевых озер Восточного Крыма. Ползет, стараясь пониже держать зад, потому что ранение туда может быть весьма болезненным, он сам видел, как один парень из гвардии, получивший пулю в седалище, стал инвалидом — постепенно, потихонечку, словно гангрена, отказали ноги. Толку с его наград. Так что Дедушка Второй ползет, старательно прижав бедра к земле, будто бы к женщине, а потом рывком поднимается и бежит с криком. Дедушка Второй бежит и Земля крутится под его ногами. Это он, солдат румынской армии, ее крутит. Так, по крайней мере, уверяет его в очередной своей поздравительной телеграмме румынской армии сам Маршал (диктатор Румынии Антонеску — прим. авт.), но солдаты уже посмеиваются. Тушенка вместо телеграммы. Вот чего бы им хотелось, чтобы подкрепиться перед очередным наступлением на этих проигрывающих войну русских, которые все никак не успокоятся. Ладно, побежим голодными. Дедушка Второй бежит прочь от вагона-теплушки на тупике железнодорожной станции в Оргееве, и его рвет, наизнанку просто выворачивает, потому что он, — в надежде поживиться продовольствием, — сбил пару досок и увидел, что было в вагоне. А оттуда сладко пахнуло залежавшейся мертвечиной и известью, это живых военнопленных набили в вагон и засыпали не гашенной известкой и оставили на солнцепеке на три дня, и Дедушка Второй убегает от этого вагона каждую ночь до самой своей смерти. Он бежит. Дедушка Второй бежит по неровному полю где-то под Ростовом, Дедушка Второй бежит под Керчью, где в него швыряет гранату морской пехотинец, и солдат теряет сознание из-за удара по голове, а взрывной механизм, к частью, не срабатывает. Жить мне долго. Перед тем, как отключиться, Дедушка Второй запоминает фигуру парня, так приложившего его гранатой, парня с волевым лицом и вскинутыми к верху руками, в этой белой русской форме, — позже он увидит такого на картине «Оборона Севастополя». Помолчит. Никому, конечно, не расскажет о том, что видел такого же и где видел такого же, а потеребит в руках шапку и выйдет из сельского клуба, открытого в 1946 году, за пару лет до голода. Он ведь возчик. Дедушка Второй всем рассказывает, что в румынской армии он был возчиком и сидел в обозе до самого Сталинграда, откуда смылся и вернулся домой, где его и взяли в Советскую армию. Старается забыть. Но это позже, а пока Дедушка Второй бежит по полю, которое вдруг резко заканчивается и перед видом открывшейся ему сверху реки у Дедушки Второго духа захватывает. Дон. Дедушка, завороженно глядя на невероятно широкую — разве такие бывают — реку, даже не стреляет в русских, попрыгавших в реку, а просто смотрит на течение. Он бежит в атаку и он бежит после неудачной атаки в тыл, чтобы сообщить господину офицеру последние новости с передовой, потому что телефонный шнур, как всегда, перебило. Дедушка Второй бежит в деревню, и выбивает ногой дверь, но находит в доме лишь старика со старухой, в белом, нарядных, прижимающих к себе ребенка, тоже в белом. Это казаки. Они радостно приветствуют своих освободителей от большевицкого ига, и, услышав их историю, неплохо говорящий по-русски Дедушка Второй думает, что, возможно, вся эта война имела смысл. Сын репрессированных родителей, мальчишка прижимается к бабке с дедом, и Дедушка Второй дает пацану половину шоколадки, которую он стащил у погибшего немца. Бежит от дома. Бежит к дому. Снова бежит в поле, бежит под огромным русским небом, и как-то время атаки его пронзает тоска, невероятная тоска, потому что дедушка Второй вдруг понимает, что Россия сейчас везде. Тысяча километров вперед — Россия, тысяча километров сзади — Россия, тысяча справа и тысяча слева — Россия. Тысяча?! Приятель хохочет, когда дедушка Второй делится с ним этим переживанием, и объясняет этому славному, но недалекому, в общем, бессарабцу, что он неправ. Пять тысяч не хочешь? Пять тысяч справа — Россия, пять тысяч слева, пять тысяч впереди и пять тысяч… Дедушка Второй впадает в депрессию. Но бежит, стараясь не зацепить сапогом камень, которых здесь, — на берегу следующей русской реки, — очень много, потому что бои ведутся в разрушенном городе. Сталинград. Немцы и русские дерутся в нем, ухватившись за город каждый, словно две собаки, сцепившиеся зубами на одной палке, и Дедушка Второй узнает, что и Крым был не ад, а чистилище, и в аду, оказывается, можно побывать и при жизни. Думает бежать. Русские стоят насмерть, немцы стоят насмерть, небо переворачивается, и Дедушка Второй глядит в открытые глаза своего офицера, пристреленного снайпером в развалинах Сталинграда, и видит в них перевернутого себя. Еще видит, как снежинка лежит на зрачке и не тает. Это-то его и добило. Дедушка бредет от города в сторону тыла, который оказывается передовой, потому что окружение в самом разгаре, и румыны просто исчезают, что повергает немецкого командующего Паулюса в шок. Чертовы румыны. Две дивизии исчезают, как будто их и не было. Отчего же, господин Паулюс, мог бы возразить Дедушка Второй, который бежит сейчас в сторону, противоположную Сталинграду, мы были, и мы есть. Иначе стал бы слать Маршал Румынии телеграммы с призывом держаться, быть, готовиться, стоять, выстаивать, и еще тысячью глаголов? Кстати, вы теперь тоже Маршал. Примите мои искренние поздравления и всего доброго, мы, румыны, — потому и не бесчувственные скоты, как эти русские, — м можем понять, когда смысл в сопротивлении исчезает. Спаси себя, спаси Румынию! Дедушка Второй бежит, и Земля под его ногами крутится в обратную сторону, и ноги эти оставляют следы не сапог, но ступней. Сапог давно нет. Дедушка Второй и еще несколько тысяч румын, разбежавшихся под Сталинградом, и ускользнувших от плена, возвращаются на родину тайком, и наивысшие шансы у тех, кто знает русский язык. Дедушка Второй знает. Даром, что ли, он родился в Русской империи, которой была тогда и Бессарабия. Идет ночами. Бежит, рассчитывая увидеть своих детей в здравии, и ужасно по ним соскучившись, а за ним бежит фронт. Медленнее Дедушки Второго. Так что почти год Дедушка Второй, добравшийся до родного села, может пожить спокойно — местный полицейский, за ежемесячные пять леев с семьи в упор не замечает сотню дезертиров, обосновавшихся в лесочке по соседству. Румын — человек! У него есть слабости, с ним всегда можно договориться, не то, что эти свихнувшиеся на своем «ни шагу назад» русские или немцы с их «жизненным пространством», румыны даже позволяют заключенным концентрационного лагеря под Одессой встречаться с проститутками из женского лагеря. За деньги. Немцы в бешенстве. Персонал лагеря меняют на немецкий, и он становится старым добрым концентрационным лагерем, со средней продолжительностью жизни заключенного три месяца. Немецкий порядок. Русский журналист Илья Эренбург пишет наброски статьи, призывающей беспощадно уничтожать врага на его территории, с надеждой опубликовать текст в течение какого-то полугода. Он оптимист. Дедушка Второй, слегка полежав в лесу, на сене, которое натаскал туда средь бела дня — еще два лея полицейскому, — снова бежит. Русские близко. Совершенно очевидно, что немцы проиграли войну, но, — как и русские несколькими годами раньше, — эти сумасшедшие продолжают воевать, хотя и продули. Безумные нации. С дезертирами расправляются. Рассвирепевшие из-за вечных предательств вчерашних союзников немцы отправляют несколько команд, и те выволакивают дезертиров, за родину которых сражается Германия, и приканчивают их без суда. Добираются и до леса. Русские войска подкатываются к Бессарабии и Дедушка Второй бежит по лесу, спотыкаясь в корнях, лес темный, — это легендарные Кодры, где схватили самого гайдука Григория Котовского! — но Дедушке Второму чудятся среди темных пятен ярко-желтые подсолнухи, и в криках дезертиров, которых приканчивает немецкая карательная команда, он слышит детскую одышку. Гоняют как зайцев. Мужчины орут, кричат, просят, но разъяренные немцы не думают оставлять в живых никого. Хорошо, если сразу. Дедушка Второй чувствует себя ребенком, напуганным и маленьким, и падает, закрыв лицо руками, прощаясь с жизнью. Нос разбит и голова его в крови. Так нельзя. Нужно в последний миг подумать о самом важном, думает он, и, набравшись храбрости, успокаивается и представляет лица своих обожаемых, дорогих детей. Сверху глядит немец. Мертвое дерьмо, говорит он и протыкает, на всякий случай, штыком руку дезертиру сраному, но тот никак не реагирует, и немец бросается на крик в лес, а Дедушка Второй лежит, и если бы сейчас пошел снег, то снежинка на его глазу не растаяла бы. Ему так страшно, что он перестал бояться. Дедушка Второй лежит. Он глядит в небо, видя лица своих детей, пока не становятся слышны голоса, снова идет цепь людей в форме и с оружием, но это уже русские, и Дедушка Второй медленно поднимает кровоточащую руку. Та колеблется посреди горы трупов, среди которых лежит Дедушка Первый, и кто-то из солдат замечает. Один жив! Русские ребята бросаются к нему, обнимают, тормошат, хлопают по плечу, обнимают, хохочут, суют в рот фляжку, и Дедушка Второй думает, что спасен, и плачет навзрыд. Наши пришли.