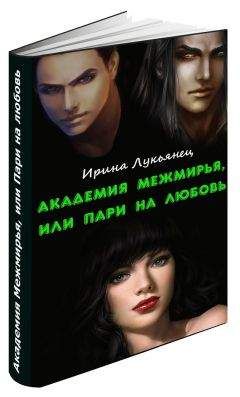Николай Карабчевский - Что глаза мои видели. Том 1. В детстве
Поручик, хотя и был в эту минуту не совсем трезв, сразу отрезвел. Он жалобно начал оправдываться, его стало трясти, как в лихорадке. Мама не унималась и резко вычитывала ему, говоря, что своим поведением он позорит всю русскую армию и недостоин носить офицерские погоны.
Как это потом вышло в точности-не знаю, только вскоре Константин Кирьязи попал в госпиталь, а затем получил где-то какое-то место по интендантству и навсегда исчез из Николаева.
Несколько лет спустя, помнится, Надежда Павловна носила по нем траур. По догадкам мамы, его сгубила водка.
Мама, после смерти бабушки, нередко бывала расстроена. Это случалось с ней каждый раз, когда к ней приезжал Тонасеенко, которому было поручено дело о бабушкином наследстве.
Матерьяльное положение мамы оказалось наименее обеспеченным, так как Богдановка оказалась уже проданной Н. А. Аркасу, с выплатою маме довольно незначительной суммы. Крюковка досталась роду Кузнецовых, а Кирьяковка перешла по наследству двум сыновьям покойной — дяде Всеволоду и Аполлону Дмитриевичу, с выплатою маме и тете Соне их четырнадцатых частей. Городской дом, в котором умерла бабушка, оказался принадлежащим маме уже по дарственной покойного деда, Григория Петровича Богдановича.
Кроме того дядя Всеволод не раз говорил маме, что покойная на словах ему всегда «приказывала» быть защитником и покровителем ее и ее семьи, так как она остается «без мужчины в доме».
Был ли такой предсмертный наказ ему от бабушки, — не знаю, знаю только, что дядя Всеволод, не за страх, а за совесть, всегда был предан интересам нашей мамы и сестры и меня любил и баловал не менее собственной Нелли.
Я лично, в особенности, всеми радостями моей юности почти всецело обязан ему.
В первые месяцы по смерти бабушки, кроме черного цвета, в который в доме все были одеты, печальное настроение еще больше оттенялось видом несчастного «бывшего цепного» Караима, судьбою которого до конца его дней были озабочены и мама и Надежда Павловна.
Караим, чуть-чуть оправившийся, бродил на свободе на двух своих передних, пока еще крепких, лапах, старательно волоча за собою задние и свой пушистый хвост.
Он повадился и особенно любил тащиться по прямой и гладкой садовой дорожке к крыльцу, куда выходила комната Надежды Павловны, оставляя за собою, точно от метлы, след на песке.
Раз добравшись сюда, он, обыкновенно, клал свою пеструю, обмохнатившуюся морду на край крыльца, словно на подушку и, распластавшись неподвижно — только глазами поводил в сторону окна, где нередко показывалась Надежда Павловна.
И так лежал он часами смирнехонько, кротко провожая глазами каждого проходящего мимо него, посылающего ему то или другое приветствие. А когда к нему подходила Надежда Павловна и ласкала его голову, он, насколько мог, еще вытягивал свою морду вперед и плотно прижимался ею к своей каменной подушке, точно замирая от неслыханного блаженства.
Неподвижная радость застывала в его слезящихся глазах.
Никто бы не узнал в нем тогда свирепого пса, всю свою долгую жизнь злобно метавшегося на железной цепи.
Протянул он еще довольно долго.
Потом, как-то весь опух и шерсть на нем защетинилась.
Последний свой вздох он испустил тут же, у крыльца, помутившимися глазами, устремленными на Надежду Павловну.
Вечером Николай принес сколоченный им деревянный ящик, Караима положили туда и похоронили в конце сада, где вырыли глубокую яму.
Я, с Надеждой Павловной, были при этом; да и мама подошла, когда его уже зарывали.
А на заднем дворе в это время метался, бегая по блоку и лязгая цепью, новый «цепной» молодой пес, сменивший Караима, и неистово лаял звонким, нетерпеливым лаем.
Глава двадцать седьмая
Бабушка умерла вовремя.
Она, все равно, не пережила бы, момента когда окончательно вырешился вопрос об отмене крепостного права.
А это последовало вскоре. Сперва о бывших дворовых, а сейчас же и о крепостных деревенских людях.
В именья стали наезжать мировые посредники; и у нас был знакомый мировой посредник, бывший моряк, с длинными, опущенными вниз, рыжими усами, который должен был ездить в Кирьяковку. Он часто о чем-то совещался с дядею Всеволодом, иногда в присутствии мамы.
По словам Григория Яковлевича Денисевича, с которым наши занятая возобновились, «по части освобождения» все шло гладко и мирно и никаких бунтов и пожаров, которых так боялась покойная бабушка, не случилось.
Относительно же наших дворовых людей почти никакой перемены заметно не было.
Николай с Мариной остались служить по-прежнему, повар Василий с женою Авдотьей тоже, Матреша выросла и расцвела, но осталась на прежней должности горничной; даже долговязый, с плоским носом, дворник Степан продолжал все также ездить каждое утро «по воду» в Спасск на волах, со своею сорокаведерной бочкой.
Много лет спустя, беседуя с мамой об этом времени, я интересовался знать, на каких же условиях согласились по-прежнему служить эти, тогда уже «вольные», люди.
Мама, смеясь, сказала мне: «ты не поверишь. Сами просили не гнать их, а оставить на прежних условиях, т. е. на всем готовом, включая одежду и несколько рублей в месяц, мужчинам-„на табак“, а женщинам-„на чай и сахар“. Николай с Мариной, Василий с Авдотьей получали от меня по пяти рублей в месяц, правда, уже серебром, а не ассигнациями. И все в таком роде».
Степана (Степку-словесника) пришлось очень скоро, однако же, отпустить за дерзко проявленное озорство.
Адмирал Александр Дмитриевич и после смерти бабушки оставался жить по-прежнему в своем флигеле. Только он уже ни за что не хотел жить «даром», а просил назначить ему цену за квартиру. Мама предоставила ему самому определить ее размер. И вот он, число в число, каждое двадцатое месяца аккуратно стал приносить маме беленький конвертик, с всегда новенькими в нем трехрублевыми бумажками. Их было всегда две, таким образом цена определилась в шесть рублей в месяц. Он не оставлял привычки вести свои расчеты на ассигнации и, платя серебром, разумеется, считал плату подходящей.
Так вот, именно у него-то и вышло грандиозное столкновение с озорником Степкой.
Его, почему-то, всегда терпеть не мог адмирал Александр Дмитриевич, хотя тот, пока был крепостным и пока жива была бабушка, боялся адмирала, как огня, и старался вовсе не попадаться ему на глаза.
Накопилась ли у «Степки» затаенная злоба против адмирала, или, просто, злая муха его укусила, но, едва став вольным, он не только перестал с адмиралом считаться и здороваться при встречах, но пронося мимо «адмиральского» флигеля, по его крылечку, блюда с кушаньями, или грязную посуду, шел под самыми его окнами, мурлыча притом еще, как бы про себя, песню.