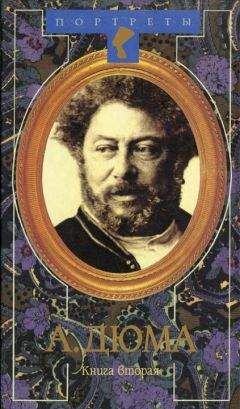Даниель Циммерман - Александр Дюма Великий. Книга 1
У Вилленава в коллекции множество автографов Бонапарта и Наполеона, но нет ни одной подписи Буонапарте, что страшно его огорчает. Александр приводит коллекционера в восторг, подарив ему письмо к Генералу, подписанное этим именем. Он просто зашелся от радости: «Именно, именно, посмотрите-ка на это «у»… О! это его «у», нет никаких сомнений. Видите, «29 вандемьера, год IV». Это он!.. Постойте! — Он ищет в папке. — Видите, в этом же году, но в месяце фримере он подписался «Бонапарт, 12 фримера». Значит, как раз между 29 вандемьера и 12 фримера он выбросил это «у»; вот где проясняется великая историческая загадка!»
Отныне Александр с распростертыми объятиями принят на улице Вожирар как отцом, так и в большей степени дочерью, которую он засыпает письмами: «Вы заметили вчера вечером, как велико ваше могущество над моими эмоциями, как легко вам разжечь их или погасить. Я говорю только об эмоциях, чувства не входят в их круг»[42]. На самом ли деле был он влюблен в Меланию? По своему, да. Сам себе режиссер, он не считал себя актером, сохраняющим дистанцию по отношению к персонажу, как об этом ратовал Дидро в «Парадоксе об актере», его роль поглощала его целиком, как Кина, будущего героя «Гения и Беспутства». Мелания нужна ему, чтобы быть принятым в аристократических салонах, которые она посещала и куда не замедлила его ввести. Ему льстит, что ее принимают за его тайную советчицу и покровительницу. Г-н Дюма работает сейчас над «Заговором Фиеско в Генуе», который он рассчитывает вскоре передать в Комеди-Франсез. Мужчина и женщина — литераторы, чета, теоретически платоническая, следовательно, не разрушающая его союза с Мари-Луизой. Мелания замужем, у нее ребенок, и страсть может произрастать в смятении и беспорядке тем лучше, что она никогда не будет опошлена повседневностью. Это генеральная репетиция, в течение всей своей жизни Александр будет проживать сам то, что введет затем в свои пьесы как основные составляющие сюжета.
Вот откуда сила: «О да, я люблю, люблю, люблю, да, этот жар — в моей крови, и сейчас в моей любви неистовства и страсти больше, чем когда бы то ни было»[43].
Им, одним на свете, не была чужда идея побега: «Если бы мог я тебя похитить и бежать от света, я сделал бы это завтра же, презрев любое другое счастье, любое другое будущее. Ибо только в тебе и мое счастье, и мое будущее. Люблю тебя, о моя Мелания, голова моя в огне, и я сейчас ближе к безумию, чем к разуму»[44].
Известно, что ревность может довести до преступления: «Лишь тот познал любовь, кто знает ревность… не так ли? Испытываешь ли ты что-либо подобное, и эти глупцы, обманщики от религии, придумавшие ад с его физическими страданиями, пусть они тоже все это испытают [sic, всепоглощающая страсть несколько заносит автора], но жалок этот ад в сравнении с тем, что я испытываю, видя тебя постоянно в объятиях другого, вот где проклятие, и вот что может довести до преступления, Мелания, моя Мелания, люблю тебя безумно, больше жизни, ибо знаю, что такое смерть, и не могу понять безразличия по отношению к тебе»[45].
Нет ничего лучше для характеристики романтического героя, чем заставить его отбросить условную мораль: «Никто не любит и не уважает мою мать больше, чем я; так вот, я считают предрассудком ту любовь и то уважение, которые предписываются разными народами в отношении родителей. На мой взгляд, и любовь, и уважение должны проистекать не из самого случайного факта нашего рождения от них, а из того, как они с нами обращаются. Должны ли мы питать к ним признательность за подаренную нам жизнь? Но ведь нередко это даже не входит в их намерения, а еще чаще они готовят нам весьма печальное существование»[46].
В презрении к существам обыкновенным может содержаться большая доля карьеризма: «Я пойду за тобой повсюду, я могу войти почти во все ваши салоны, и всем этим равнодушным глупцам даже в голову не придет, что я здесь только ради тебя и с тобой»[47].
Совершенно очевидно, что комические ингредиенты позволяют лучше переваривать возвышенное: «Извини за свободное место [в конце страницы], но мама торопит меня, крича: «Твои яйца сварились, Дюма! Еще немного, и они затвердеют», и как противостоять столь насущной логике? Прощай, прощай, мой ангел. Не волнуйся, мама, если мои яйца затвердели, я съем их с растительным маслом»[48].
Он никогда не отдыхает, не работает только по воскресеньям, и в нынешнем 1827 году, как и в предшествующие, не может участвовать в открытии охотничьего сезона в Виллер-Котре. Тем не менее в сентябре ему удается подцепить Меланию на свой крючок[49]. В один и тот же насыщенный событиями месяц в Одеон приезжают играть английские актеры, а Салон посвящен триумфу романтизма в живописи. Александр не упускает ни одного из этих событий.
В 1822 году «одна английская труппа попыталась приехать и сыграть свои спектакли в театр «Порт Сен-Мартен», но была встречена такими воплями и шиканьем, столько яблок и апельсинов валялось потом на полу в театре, что несчастные артисты вынуждены были покинуть поле боя, все усеянное снарядами». Пять лет спустя английская литература со Скоттом и Байроном, а также американская с Купером вошла в моду. «Ветер дул с запада, предвещая революцию в литературе», и театр Бульваров, намного опередив Комеди-Франсез, уже готовит почву для ожидаемых перемен и самим выбором сюжетов, и спектаклями как таковыми. Два великих актера открылись публике — Фредерик Леметр и Мари Дорваль, отныне «на Бульварах у народной драмы был свой Тальма, а у трагедии — своя мадемуазель Марс. <…> И таким образом английские актеры встретились с парижской публикой, уже разогретой эмоциями и громко требующей новых эмоций вослед уже пережитым».
Александр теперь знает наизусть шекспировского «Гамлета», а не того, что написал Дюси. Поэтому нет никакой необходимости покупать либретто, чтобы следить за событиями пьесы. Он потрясен: «Первый раз в жизни я видел в театре подлинные страсти, облаченные мужчинами и женщинами в плоть и кровь». Он понимает «эту вечную устремленность к литературе», которая дает «способность быть человеком и героем одновременно». С окончанием спектакля, присоединяясь к единодушной овации зрителей, «я обрел идею театра, и на обломках всего прежнего, оставшихся в моем рассудке в результате полученной встряски, возникло понимание возможности создать новый мир».
Дабы сыграть, наконец, собственную партитуру, следовало сначала покончить с гаммами, бросить переделки Скотта и Шиллера и вернуться на расчищенную «Гракхами» дорогу, но где найти новые сюжеты? Может быть, в Салоне, где царит такая сутолока. Если «Иов» Жило Сент-Эвра, «Рождение Генриха IV» Эжена Девериа, «Мучения Мазепы» Буланже — предмет живых споров, то монументальное (5 м х 4 м) полотно Делакруа «Смерть Сарданапала» вызвало настоящий скандал[50]. Какая-то лавка старьевщика, все свалено в кучу, пренебрежение правилами, как можно до такой степени игнорировать рисунок, и этот беспорядок на первом плане совершенно ужасен, негодуют классики, лысые, как коленка (модное в то время сравнение). Зато волосатая молодежь аплодирует сценам оргии, женщинам в истоме и женщинам, которых убивают, аплодируют опустошающему город пожару и продолжающему царствовать над всем этим царю ассирийскому, возлежащему на смертном одре, спокойному, равнодушному к смерти, которую он сам себе выбрал, оставаясь хозяином своей судьбы. Кроваво-красный колорит, оттененный черным и золотым, произвел сильное впечатление на Александра. Он качает головой: Делакруа хорошо, он воспользовался байроновским «Сарданапалом», посвященной Гете трагедией, и от этого его собственное произведение не перестает быть ни оригинальным, ни революционным. Но если художники обладают полной свободой действия и черпают из слов свою несловесную материю, почему бы писателям не действовать в обратном направлении?