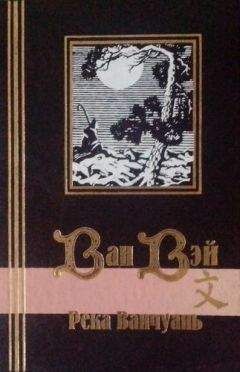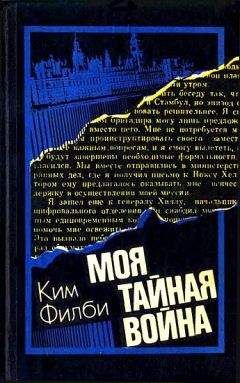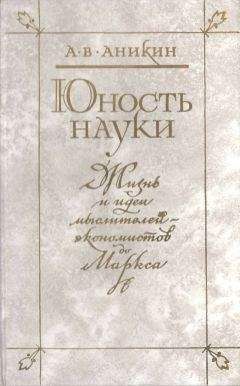Теодор Шумовский - Воспоминания арабиста
— Аррани там и погиб, в темнице, об этом что-нибудь сказано? — спросил Крачковский.
— Он пробыл в темнице сколько-то лет, это еще неясно. Есть у него цикл под названием «аз-Зинданийят» — «Узницы», можно так перевести? По-видимому, это стихи, созданные в темнице? Потом шах его освободил, ведь Аррани был когда-то украшением дворца, и теперь, поумнев за годы заточения, он мог бы еще лучше исполнять эту роль. Но Аррани отпросился на богомолье в Мекку и долго скитался по свету, не желая возвращаться в столицу Ширвана, отнявшую у него лучшее, что он имел. И все же, уже совсем старым, вернулся, ибо она и дала ему лучшее, что он имел в жизни, — сердце поэта и любовь Илен. Ну, и вот потом его следы теряются, неизвестно, в каком точно году он умер, какую строку создал последней…
— Будем надеяться, что все это когда-нибудь прояснится — сказал Игнатий Юлианович. — Только еще раз говорю: не спешите. Это ведь, как операция на глазу: одно резкое движение — и все пропало. Чтобы вернуть глазу, то есть вашему поэту, жизнь, нужно научиться хорошо владеть скальпелем.
* * *С тех пор прошло тридцать пять лет. Это были трудные годы, когда мой арабистический путь не раз скользил над бездной. В течение их, занятый разнообразными делами, полный всяких переживаний, я строку за строкой, как мог, чистил свои переводы из Аррани. И лишь теперь, когда, как мне кажется, удалось приблизиться к глубинам души этого поэта, я бы решился показать свои опыты Игнатию Юлиановичу. Но его давно нет среди нас. Пусть же несколько «лепестков золотой розы», к которым мы подошли, лягут в лоно памяти о нем.
* * *Ниже приведена небольшая доля творческого наследия Аррани. Внутри ее произведена классификация по разделам: «Поэт», «Илен», «Стрелы» и «Раздумья». Этих разделов нет в сборнике ширванского стихотворца и не могло быть, поскольку творящая натура — это прежде всего живой человек, откликающийся своим творчеством на внешние впечатления данного часа своей жизни или же на личные воспоминания о том либо ином пережитом событии. Только что он наслаждался общением с любимой — и его сердце поет о великом таинстве и светлом откровении любви; часом позже, вступая в сумрачное великолепие шахского дворца, он, чуткий и напряженный, словно осязаемые ощущает на себе позолоченные длани окостеневшего на живом, и, содрогаясь от боли, строптивой мыслью переливает эту боль в строки утонченного сарказма; покинув дворец, он долго бродит по дорогам столицы, погруженный в думы о драмах, из века в век разыгрывающихся на сцене истории, о борьбе желаний, о сути человеческой жизни. Возбужденный мозг, понемногу успокаиваясь, устремляет свой взор в глубь кладезя опыта, в недра памяти, потемневшее сердце светлеет и начинает биться ровнее, мысль уходит далеко за пределы дворца, столицы, страны, за рубежи дня и века. Так рождаются раздумья обо всем, рядом с которыми естественно возникают раздумья о себе, о своем назначении, о своих тревогах и блаженствах. Эта последовательность, конечно, условна, элементы схемы могли свободно меняться и, несомненно, менялись местами в цепи переживаний поэта. Это естественно, поэтому живое творчество, опирающееся на вдохновение, бессистемно. Однако я исходил из желания представить разносторонность поэзии Аррани более выпукло, чем это возможно при диффузном воспроизведении сборника. Так появились названные выше разделы, где отобранные образцы, как мне кажется, более или менее удачно оттеняют разные грани творчества средневекового гуманиста.
Поэт
Чтоб голода не было в мире и жажды,
Ты, солнце, над миром взойдешь не однажды
Ты реки растопишь, поднимешь сады,
Живительной влагой наполнишь плоды.
С тобой поколеньям легко и привольно
Но мысли однажды подняться довольно
Над миром, поэта покинув чело,
И всем поколеньям светло и тепло.
*
Я лишь сосуд для моего стиха.
Я грудь для сердца — моего стиха.
Ведь он мне — жизнь, а я ему — оправа
Я лишь носильщик моего стиха.
Себя он мне развертывает свитком,
Я только голос моего стиха.
Во мне он дремлет драгоценным слитком,
Я лишь гранильщик моего стиха.
Во мне он бьется беспокойным телом,
Я два крыла для моего стиха.
Умру, когда в жилище опустелом
Умолкнет шум, угаснет свет стиха.
Но, может быть, мой донесется голос
К другим векам, и новый муж стиха
Вспоит своих поэм упругий колос
Живой водою моего стиха.
*
Стяжатели — не осуждаю их:
Мы все — гонцы при жребиях своих.
За золото глупцы роднятся с адом;
Мне золота, пропитанного смрадом,
Дороже мой благоуханный стих.
*
Тяжелый шаг меня топтавших дней
Для выжившего тела все больней.
Зеленые побеги, поздней страсти
И черный след костров в душе моей.
*
Я жизнь люблю. А, может быть, она
Без памяти в меня, поэта, влюблена
За то, что, смертный червь, бессмертное творю?
Она ль мне дарит стих? Иль я ей стих дарю?
*
Приснилось мне как-то — умер внезапно как будто я.
Вздохнул облегченно некто, вздохнули в тоске друзья.
Мулла надо мною скорбно читал нараспев «Я-син».[52]
«Твоя! — мне шептала страстно могила, — навек твоя!»
Но вдруг я восстал из гроба, шагнул от могилы я,
И в страхе бросились опрометью недруги и друзья.
Я рек: «Аррани, не нужен пока для тебя „Я-син“:
Так мало еще ты сделал! Так жатва бедна твоя!»
*
Ученый за столом в раздумьи морщит бровь,
Поэт вливает в стих свою живую кровь.
Ученым для трудов нужны покой и книги,
Поэтам для стихов — тревога и любовь.
*
Когда мне больно, черных слез не лью,
Зову я юность трудную свою.
Из кубка памяти вино воспоминаний,
Светлея, пью.
*
Я жалкий смертный человек — и только.
Я раб заносчивых калек — и только.
О, если б я умел творить стихи!
Нет, я стихи пишу — и только.
*
Кто не знал пустых тревог,
Кто в толпе себя сберег
— Счастлив, кто меж петухами
Соловьем остаться смог.
*