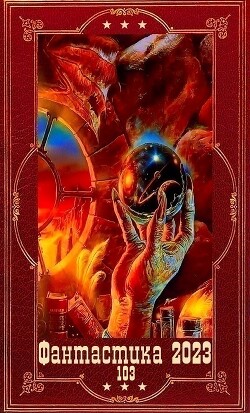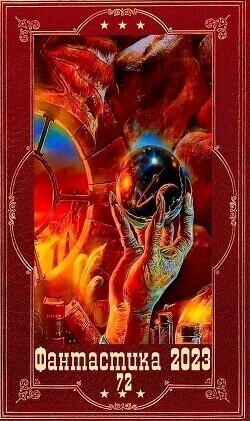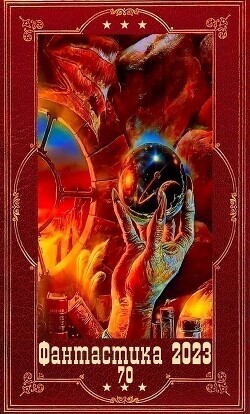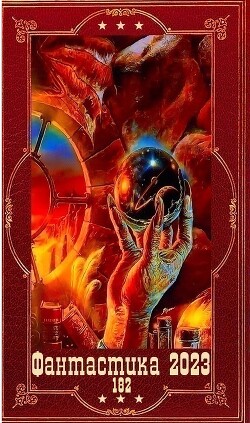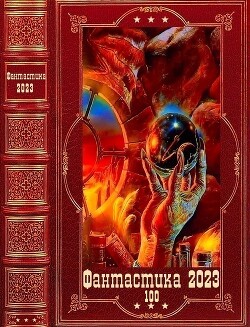Дневник отчаявшегося - Рек-Маллечевен Фридрих
— Не расстраивайтесь, столько библиотек гибнет, а ваша чем лучше?
Глаза этого человека, который когда-то был землемером, а теперь, как Наполеон на колесах, упивается ощущением своего всемогущества, сверкают злобой. Я помню во время мировой войны куршский окоп, в котором люди в землянке топили печки сафьяновыми обложками и гравюрами Бодони из соседнего Ливенского замка Межотне: это была солдатская необходимость, желание ухватиться за ближайшую возможную помощь, но не за эмоциональное желание…
Здесь же дело обстоит иначе. Прежде всего это враждебность к человеку с университетским образованием, к более крупным формам жизни, долгожданная возможность наконец-то, наконец-то отомстить высшей касте.
А кроме того, адская ненависть канальи ко всему духовному, ненависть, которую немецкая буржуазия взрастила в XIX веке, когда в середине столетия с невиданным цинизмом позволила редчайшим драгоценностям своего собственного прошлого скатиться в сточную канаву [234]…
В ближайшие дни предстоит многое сделать по этому поводу. Меня предупреждает офицер из Траунштайна: господин Бухнер a conto [235] на мое приветствие «Бог в помощь» повсюду стал распространять, что я причастен к покушению 20 июля. Тогда речь идет о том, чтобы очень быстро найти в Мюнхене «разбомбленных» единомышленников, которые не шпионят за тем, какую радиостанцию слушают, и не доносят. Мы берем в дом мюнхенскую пару обойщиков, которых я знаю как очень надежных, а еще мне рекомендуют «разбомбленного» художника, американца, спокойно живущего в Мюнхене, который оказался потрясающе милым парнем. Поскольку ни в коем случае нельзя выбирать себе гостей à bon aire [236], все это стоит бесконечных поездок в Мюнхен, поездок в переполненных и грязных купе, бесконечного ожидания в нацистских кабинетах, где слышно хихиканье прелестниц-машинисток из всех офисов… этого отвратительного типа девушек, характерными чертами которых являются ниспадающие на плечи завитые волосы, вечное поедание сомнительного мороженого, еще более сомнительного торта и издевательства над публикой. Ну вот, в разгар ужасного кризиса, сотрясающего нацистскую систему с Запада, с Востока, со всех сторон, я переживаю дни, когда не знаю, принадлежит ли мне еще мой дом, дни, которые позволяют увидеть шаткость общей постройки, которая теперь качается и трещит. Странный сюрприз! Мне необходимо в так называемый гауляйтунг, где всё именно так, как мы себе представляем нацистскую канцелярию, с «главными командирами», которые вчера были начальниками бюро, а сегодня играют в Чингисхана, с ароматом коррупции, тайного страха, который либо прячется за грубостью, либо ищет сочувствия… А с другой стороны, я в гестапо с охранной грамотой, обещающей помощь, где все выглядит совсем не так, как вы думаете. Хорошо обставленные тихие комнаты, воспитанные подчиненные, а в качестве вахтенного регирунгсрат [237] Гаде, вежливый, тактичный молодой человек, который просит у меня разрешения докурить сигару и показывает себя образцом вежливости и хорошего воспитания. Гестапо говорит «Бог в помощь» там, где гауляйтунг кричит посетителю «хайль Гитлер!», гестапо утешает меня намеком, что перспектива нацистского стукача, имеющего право в любое время шнырять по моему дому, которая меня тяготит, растворится через две-три недели, как и насилие, то есть существование партии…
Странная атмосфера страха, покорности, бушующей последней ярости, которая хочет превратить Германию в погребальный костер в честь великого Маниту… Странная атмосфера, полная микробов конца света!
Если этот рой термитов, который утром и днем в rush hour [238] покрывает трамваи гроздьями — если эти массы, совершенно безмозглые после утраты интеллекта, еще функционируют! Воздух наэлектризован так, что завтра, нет, каждый час, может ударить молния. Люди, внешне благовоспитанные получатели ежедневной порции нацистского благосостояния, прекрасно это понимают и глубоко возмущены; их злость выражается в истериках, которые можно ежеминутно наблюдать у почтовых касс, в трамваях, в дурацких очередях за тем, что сегодня все еще называется газетой.
Каждый миг сдают нервы, каждый миг происходят сцены, затрагивающие естество этой глубоко оголтелой нации. Я вижу, как шестнадцатилетняя девочка, садясь в трамвай, дает пощечину пожилому, несколько неуклюжему господину, потому что он недостаточно быстро покидает вагон… милая дама очень удивляется, когда я отвечаю ей двойной пощечиной, под бормотание: «Каналья».
Я никогда не видел, чтобы Германия так вырождалась… нет, даже манеры мюнхенской советской республики были образцовыми по сравнению с тем, что оставит нам герр Гитлер. Мюнхен, оскверненный и извращенный, изнасилованный прусскими паразитами город, смотрит на меня странно, будто я переезжаю в Чикаго.
О, как жутко ходить по руинам этого города, который еще вчера был таким уютным. На улице Х., которую я проезжаю на трамвае, рушится дом в огромном облаке пыли и превращает дорожку, по которой мы только что проехали, в пятиметровую груду обломков… здесь пахнет разложением, потому что под обломками до сих пор лежат тела погребенных тут семнадцати банковских служащих. Члены семей погибших возложили на руины венки в память о своих несчастных родственниках, утонувших в жиже канализации; крысы, сытые трупами, беспечно юркают по руинам и венкам.
Ни одного работающего телефона, ни одного прилавка, который бы обрекал клиентов на многочасовое ожидание, ни одного магазина, который бы торговал, ни одной крыши, на которую бы попадал дождь.
И над всем этим стадо троглодитов, безмозглых и звероподобных, как голодные обезьяны в зоологическом саду, ждущие еды, набрасывающиеся на любую кормежку в обед и вечером, запивающие химическим пивом, верящие во все, что говорит пропаганда, которые непосредственно виноваты в том, что этот безумец смог править нами двенадцать лет. Разве это не верх трагизма, не чудовищный позор, что лучшие немцы, оставшиеся здесь, которые в течение двенадцати лет были пленниками стада злобных обезьян, должны надеяться и молить о поражении своего отечества ради самого этого отечества?
*
Арестовывают, арестовывают, впадают в психоз ареста, который лишь плохо скрывает дрожащий страх тех, кто эти аресты производит.
Арестовывают Тони Арко [239], который сегодня, наверное, горько сожалеет об убийстве Эйснера [240] двадцать пять лет назад, арестовывают Шахта и старого Гугенберга, арестовывают бургомистра Шарнагля [241], арестовывают придворных дам и молодых послушниц ордена.
Люди исчезают бесследно, о них ничего не слышно неделями и месяцами, целые семьи рассеиваются в неизвестности. А. был арестован, Ф. Р., как предполагается, тоже, его брат, носивший титул Великого магистра, бесследно исчез во время поездки в Вену. О нем известно только, что его видели между двумя охранниками на железнодорожной платформе где-то в Австрии, в наручниках… прошло всего два года с тех пор, как война поглотила двух его сыновей. От его величества приходят странные и мрачные новости. Из Верхней Италии господин фон М. получает следующее сообщение: «Не беспокойтесь о полковнике, он в безопасности в Доломитовых Альпах». Нет сомнения, что полковник имеет в виду его, семидесятипятилетнего короля Баварии, который так живо рассказывал мне о своей первой встрече со старым императором Францем-Иосифом и Бисмарком, о завидном аппетите на завтраках девяностолетнего Вильгельма I и который, бежав из страны, бродит сейчас, наверное, от одной горной хижины к другой. Это письмо господин В. М. получил в начале октября, а сейчас, в последние дни месяца, ходят слухи, что он убит. Хуже такой медвежьей услуги нацисты не могли себе оказать; в конце концов, я могу представить себе обстоятельства, при которых враг, избитый до смерти, может быть более опасен, чем живой.