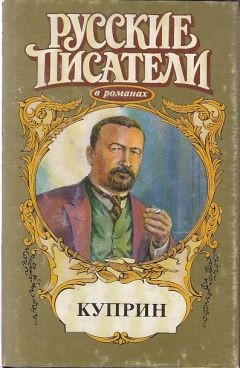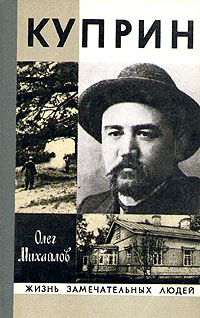О. Михайлов - Куприн
Он взошел на поросшее брусникой взлобье, прислонился спиной к огромной мрачной ели и с пафосом воскликнул:
— Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность! Но в любви! Вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви…
— Э, друг мой! — удивился Батюшков, останавливаясь рядом. — Вы говорите так романтически, словно сами влюблены, влюблены юношески…
— Так оно и есть, — тихо сказал Куприн и попросил: — Федор Дмитриевич! Я давно хотел предложить вам перейти на «ты»…
— С удовольствием, только, конечно, без брудершафта, — улыбнулся Батюшков. — Так, Александр Иванович, ты, оказывается, влюблен? Бог мой! В кого?
— Я люблю Лизу Геинрих…
— И это серьезно?
— Как никогда в жизни, — упрямо проговорил Куприн. — И не знаю, что мне делать. Посоветуй, Федор Дмитриевич!
— Ты говорил ей об этом? — Батюшков внимательно поглядел на Куприна.
— Нет… Может быть, она о чем-то и догадывается, но у меня не хватает сил.
— Ты обязан с ней объясниться! — взял его за руку Батюшков. — Понимаешь? Это совершенно необходимо сделать, чтобы не быть в двусмысленном положении…
Поздно вечером того же дня Куприн назначил свидание Лизе в парке возле пруда.
При свете месяца, вспыхивавшего холодным металлическим диском в разрыве туч, Куприн увидел милое лицо, в детских чистых глазах которого прочел страх и надежду. Он не знал, с чего начать. В наступавшей ночи, в свежести воздуха и слабых, неясных отзвуках далекой грозы, казалось, вот-вот вспомнится что-то очень важное, давно забытое, связанное с молодостью, подъемом сил, надеждами, ожиданием счастья.
Низкие тучи надвигались быстро, цепляя верхушки лип. Скоро не стало видно ничего: ни туч, ни кустарников, ни Лизы. Куприн нашел в темноте ее маленькую холодную ручку.
— Лиза, — сказал он горячечным шепотом, — я понял, что больше всего на свете, больше себя, семьи, своих писаний люблю вас… Понял, что без вас не могу жить…
Наверху загрохотало и оборвалось с сухим треском — молния и гром явились почти одновременно, с ничтожным разрывом.
— Что вы, что вы! — в отчаянии ответила Лиза. И хотя говорила она чуть слышно, Куприну показалось, что гром, уже непрерывно грохотавший, не может заглушить ее шепота. — А как же Люлюшка? Как же вы можете даже подумать о том, чтобы оставить ее?..
— Я не знаю, что мне делать, но я не могу без вас, — тупо повторил Куприн. — Выслушайте меня до конца…
Она вырвала руку и побежала. Куприн, натыкаясь на деревья и кусты, бросился за ней к усадьбе, где уже не светилось ни одно окно.
Рано утром Лиза Гейнрих, никого не известив, покинула Даниловское.
6
— Прохор! Про-охор!
Крошечный седой старичок, совмещавший в «Капернауме» обязанности швейцара, официанта и слуги за стойкой, на ходу кланяясь, семенил к Куприну.
— Еще четверочку!
Куприн бушевал в Петербурге. Он переезжал из роскошных ресторанов в затрапезные кабачки вроде «Давыдки» и «Капернаума», пил в «Вене», загонял лихачей, гулял с цыганами и не отпускал от себя никого из честной компании — Трозинера, Трояновского, Рославлева, Регинина. Лиза Гейнрих исчезла. Все розыски, предпринятые Куприным, оказались безуспешными. Утром, еще не расцепив веки, он звал Маныча и через несколько минут после бокала шампанского погружался в мутно-сладостный водоворот похмелья. За завтраком с водкой обсуждался только один вопрос: куда отправиться сегодня…
— Александр Иванович! Вас спрашивают… — Прохор принес четверть бутылки коньяку. Такими же четверочками, уже пустыми, был заставлен угол стола.
Куприн, тяжело повернувшись на стуле, оглядывался со злобой и скукой. Он узнал редактора газеты «Понедельник» Илью Василевского.
— Чего тебе?
— Рассказ… Только обещайте, Александр Иванович… — вкрадчиво сказал тот. — Гоняюсь за вами вторые сутки… Гонорар даю вперед. Плачу семьсот пятьдесят за лист… — И потянулся за бумажником.
Маленькие глазки Куприна налились кровью.
— Геть отсюда! — так страшно закричал он, что Василевского сдуло.
Потом схватил салфетку, свернул ее жгутом и начал крутить. Шея у него надулась, и нижняя губа оттопырилась. Салфетка лопнула.
— Экая силища! — восхитился Трозинер и потребовал еще четверочку.
— А я, — проговорил Рославлев, огромного роста, непомерно толстый, — так не могу. У меня слабые руки… Зато на спор оглушу сейчас двадцать пять бокалов пива.
— Держу пари, нет! — воскликнул Трояновский, откидываясь на спинку стула.
— Держись, юнкер! Не лопни, Рославлев! А то опять тебе баранью котлету к брюху! — восторженно завопил Вася Рапопорт.
Прохор принес пива на подносе. Рославлев откинул волосы, раздвинул ноги и начал пить.
Куприн пристальным невидящим взглядом вперился в него. Трозинер гладил Трояновского по волосам, напевая на мелодию Оффенбаха:
Ах, наш юнкер проиграл,
Проиграл, проиграл!
Ай-яй-яй, какой скандал,
Ах, скандал! Да!..
Рославлев, охая и повторяя: «Кишочки болят», — приканчивал двадцать третью кружку. Вася Рапопорт возгласами подбадривал его. «Где я? — с тоской подумал Куприн. — Что они тут делают? И Маныча где-то потеряли… Лиза! Лиза! Лиза! — Билась кровь в запястьях, под левой лопаткой, в висках. — Все погибло! Назад пути нет. Но и Лизы нет тоже!»
Куприн вскочил на стол и принялся топтать по нему, разбивая крепкими ногами рюмочки, стаканчики, бутылочки из-под коньяку. Друзья, сидя на стульях, хлопали в ладоши, подпевая джигу. Рославлев хотел было тоже встать, приподнялся, но повалился всеми своими девятью пудами вместе со стулом на пол. Куприну вдруг представилось, что он в Даниловском танцует на елке, а навстречу идет Батюшков.
— Федя! — прорыдал он. — Мой единственный друг!
Батюшков помог ему слезть со стола.
— Саша, я нашел Елизавету Морицовну. Она работает в отдаленном госпитале, в отделении заразных больных…
Куприн, медленно трезвея, слушал его. Младенцем ревел завалившийся под стол Рославлев.
— Я постарался объяснить ей, — продолжал Батюшков, — что твои разрыв с Марией Карловной окончателен, что ты погибаешь и что только она может тебя спасти.
— Да-да, спасти… — механически повторил Куприн. — Спасать — ее призвание!
— Саша, она согласна. Но ее твердое условие: ты тотчас же перестаешь пить и отправляешься лечиться в Гельсингфорс…
19 марта 1907 года Куприн с Елизаветой Морицовной выехали в Финляндию.
7
Счастье, всеохватывающее бурное чувство, близость любимой и любящей женщины. Но покой не приходил. Теперь, когда Куприн ясно понимал, что закладываются основы простого и прочного быта, семьи, особенно остро ощущались отсутствие очага, дома. Куприн мечется по России, ненадолго останавливаясь то в Гурзуфе, то в Гатчине, то в Ессентуках, куда его загоняет ревматизм, то снова в Финляндии, то задерживается в Житомире, где в это время была его любимая сестра Зинаида Ивановна Нат. В этот сравнительно короткий период кочевья, переездов, нахлынувших забот он пишет много и вдохновенно: «Суламифь», «Изумруд», начало «Листригонов», первая часть «Ямы»…