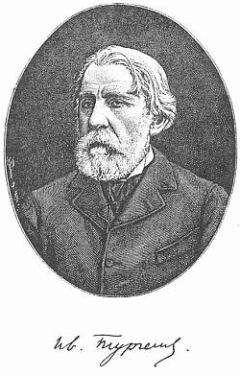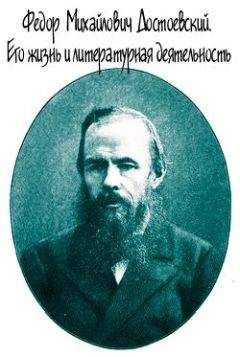Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность
Остановилась тогда моя жизнь. Я мог дышать, есть, пить, спать и не мог не дышать, не есть, не спать, но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, я вперед знал, что удовлетворю или не удовлетворю мое желание – из этого ничего не выйдет. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в трезвые минуты я знаю, что это – обман, что желать нечего. Какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от жизни. Мысль о самоубийстве была так соблазнительна, что я должен был употреблять против нее хитрости, чтобы не привести ее слишком скоро в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успею, – говорил я себе… И это сделалось со мною тогда, когда я был совершенно счастлив – все у меня было: семья прекрасная, средства большие и все возраставшие, слава, уважение ближних, здоровье, сила телесная и душевная, кажется, все…
Я уже ничему в жизни не мог придать никакого разумного смысла. Все это так давно всем известно. Не нынче завтра придут болезни и смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, забудутся все раньше или позже – это все равно. И главное – меня не будет. Так из чего же хлопотать? Прежний обман радостей житейских, заглушавший ужас смерти, уже не обманывал меня. Сколько ни говорили мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не мог уже этого делать, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не мог не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти…
Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, – уже стали не сладки мне. Семья? – говорил я себе, – но семья – жена, дети, они – тоже люди. Они тоже должны или жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же мне жить? Зачем мне любить их, беречь, растить… и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, всякий шаг в познании приведет их к истине. А истина – смерть… Искусство, поэзия? Долго под влиянием успеха, похвалы людской я уверял себя, что смерть, которая уничтожит и дела мои, и память о них, – ничтожна. Но скоро я увидел, что и это обман. Мне ясно было, что искусство есть украшение жизни, заманка к ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость – как же я могу заманивать других? Пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его, – отражение жизни в искусстве доставляло мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства. Но когда я стал отыскивать смысл жизни, зеркальце это стало мне или мучительно, или ничтожно…
Зеркальце теперь говорило, что положение мое отчаянно и глупо; этим я не мог утешаться. Хорошо мне было любоваться его отражениями, когда я верил, что жизнь имеет смысл. Тогда эта игра светов – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни потешала меня. Но когда я узнал, что жизнь бессмысленна и ужасна, игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если эта истина всегда была мне известна, я бы мог быть спокойным, зная, что это мой удел. Если бы я был как человек, от рождения безвыходно живущий в лесу, из которого он знает, что выхода нет, я бы мог жить.
Но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу; знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться. Это было ужаснее всего… И чтобы избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня, знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог терпеливо ждать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь и все кончится, – я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорей, поскорей избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству…”
Толстой по обыкновенной своей привычке, раз дело касается личной его жизни, говорит слишком общо: “На него стали находить минуты уныния, жизнь его остановилась” и т. д. “Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю” – вот смысл предыдущих строк. Мед исчез, возможность и охота наслаждаться медом исчезла – корень жизни надломился, и великий человек на вершине человеческой славы опять стоит с глазу на глаз с роковой тайной бытия и, вперив в бесконечную пустоту вселенной свой испытующий взгляд, спрашивает себя: зачем, к чему?
Кто же расскажет, что тайна от века,
В чем состоит существо человека…
Кто он? Откуда, куда он идет?
Кто там вверху над звездами живет?
Это страшный вопрос, и прав поэт, говоря:
Сколько голов беспокойных томил он,
Сколько им муки принес!
И вот, счастливейший из смертных, граф Толстой прячет от себя шнурок, чтобы не повеситься, и не ходит на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Что же такое жизнь? – спрашивает себя этот счастливейший из смертных и отвечает: кем-то сыгранная с нами злая и глупая шутка… Он смотрит на веселые, смеющиеся лица детей, на другие знакомые, любимые лица и думает: пройдут годы, и в сущности немного лет всего, и замолкнет этот смех, и не останется ничего; кроме смрада и червей. Что я в сравнении с вечностью? Обидный страшный звук – не больше.
Толстой говорит, что он “боялся жизни”, “стремился от нее”. Я думаю, что он всего сильнее боялся смерти. Приближающаяся старость, седина и морщины, болезни – все это направляло ум к той стране, откуда не возвращался еще никто. С точки зрения смерти, все суета, все глупо, не нужно, пусто. Дойти до такого настроения, когда, смотря на смеющиеся красные губы, воображаешь их изъеденными червями, или, видя перед собой лучистые, полные жизни глаза, думаешь о безобразных впадинах черепа, набитых землею, – значит не жить уже больше. Мы сейчас ближе познакомимся с этим процессом смерти и возрождения. Но пока одно маленькое замечание.
Чем жив человек? Своей привязанностью к жизни прежде всего. Она не иллюзия, а мать всех иллюзий, надежд, ожиданий, она источник силы, стремления, радости. Раз исчезла она, исчезло все. Привязанность к жизни, инстинкт не выдерживает критики с точки зрения разума и не нуждается в этой критике. Я думаю даже, что такая критика преступна. Это понимал Лермонтов, когда писал: я не хочу…
Чтоб тайный яд страницы знойной
Смутил ребенка ум спокойный
И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток…
О нет, преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелою ценою
Я вашей славы не куплю…
Уничтожать в другом привязанность к жизни – преступная мечта. Это все, что есть у человека, это богатство всех его дней; отнимать его то же, что отнимать у нищего суму и корку хлеба у голодного. Когда паралитик Гартман говорит, что жизнь скучна, – это не беда; но когда он с немецкой аккуратностью и несомненным блестящим и ловким диалектическим талантом начинает перечислять все радости бытия и подкапываться под чувство любви, дружбы, веры, счастья, я полагаю, что он совершает преступление. Привязанность к жизни – сумма всех инстинктов жизни, их равнодействующая, таинственный жизненный эликсир алхимии; величие разума в том, чтобы увеличивать ее, давать ей свободу проявления, предохранять ее от ошибок, но не заражать тайным ядом сомнения. Сомнение должно остановиться здесь; идти далее преступно. Такое страшное преступление совершил Гамлет, хотя он и любил Офелию более, чем сорок тысяч братьев. Он влюбленной, милой, полной жизни девушке показывал лишь череп и могильных червей, он послал ее в монастырь. Прямое убийство лучше и честнее, чем эта медленная отвратительная инквизиция.