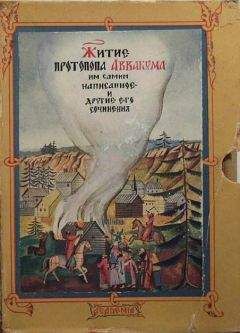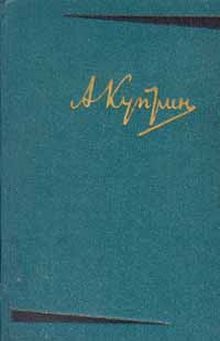Василий Маклаков - Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917
Ввиду такой «общей» политики и по такому вопросу нельзя было не признать, что наши надежды на легальное, с содействием властей, улучшение университетских порядков свою почву теряли. В лагере власти совершалась неблагоприятная «смена».
Интересно, что с этим совпадала и перемена в студенческих настроениях. Тогда я ее мало заметил, тем более что с переменой факультета постепенно отходил от своих прежних кругов. Только потом из мемуарной литературы я узнал, что то течение, к которому я принадлежал, стало уже считаться опасным, как способное «понижать» революционное настроение, и что с ним решено было бороться. Мне было самому интересно увидеть освещение с другой стороны того, что я пытался делать тогда; это я увидел из мемуарных воспоминаний этого времени.
Всего интересней в этом отношении для меня оказались «Записки социалиста-революционера» В.М. Чернова. Я студентом не помню его, хотя, кажется, знал его брата; в памяти моей сохранились его слова, что его брат, вероятно именно Виктор Михайлович, сейчас занят исключительно «агитатурой». Я запомнил это странное выражение. Книжка покойного Чернова для меня особенно любопытна потому, что она много говорит о тех людях, которых тогда я знал очень близко, хотя идейно от них был далек.
И вот что он в своих воспоминаниях пишет: «Вокруг студента-юриста IV курса В.А. Маклакова, только что вернувшегося из-за границы, сплотился кружок, лелеявший идею о легализации студенческих землячеств. Идея принадлежала лично Маклакову. Он написал в „Русских ведомостях“ два-три фельетона о разных типах студенческих организаций-корпораций, научно-литературных кружков и т. п. за границей. Говорили о каком-то „докладе“ совету профессоров, о шансах аналогического доклада в более высших сферах. Покуда что явилось „легализаторское“ течение в студенческой среде. Его сторонники говорили о необходимости – в особенности на время „кампании“ за узаконение студенческих организаций – воздерживаться от политических „выступлений“».
В этих словах, помимо фактических ошибок, есть доля правды, которая видна уже и из моих воспоминаний; только мою личную роль в этом течении Чернов преувеличил. Я вовсе не создал его; это настроение было общим настроением студенчества, соответствующим настроению русского общества, когда была покинута дорога либеральных реформ и раздавлена подпольная революция. «Либеральному» течению оставалось только в маленьких делах, земстве, публицистике, судебной деятельности, продолжать служить тем принципам, которые попирали кругом. Подобное настроение отражалось и на студентах. Для их деятельности я только старался возможно более такие рамки расширить. Я не замышлял мешать революционному студенчеству заниматься своей пропагандой; я хотел только, чтобы это не вносилось в легальные организации. Для всяких функций должны быть свои подходящие органы.
В своей книге Чернов раскрывает, как с этим стали бороться. «Приходилось, – пишет Чернов, – брать „быка прямо за рога“. Союзный Совет назначил большое собрание, по несколько представителей от каждой студенческой организации, для обсуждения вопроса о „легализаторстве“. Приглашен был высказаться и сам Маклаков. Он говорил хорошо – плавно, выразительно, красиво, но без всякого entrain.[41] Он скорее объяснялся и оправдывался, чем пропагандировал свои идеи. Все выходило скромно и просто. Почему бы не выделить в легальные организации некоторые элементарнейшие функции современных землячеств, вроде простой взаимопомощи? Он не противник иных форм организации – пусть они существуют сами по себе, – он только за дифференциацию функций; и если некоторые из них могут выполняться беспрепятственнее, шире и лучше при узаконении – следует попытаться добиться такого узаконения. Правда, практически надежд на это сейчас мало, но надо работать хотя бы для будущего. Рано или поздно, но реакционный курс должен же смениться политикой послаблений и уступок».
Мне было любопытно читать этот рассказ, так как я отлично помню это собрание. Но помню также и то, что мне тогда никто не сказал, какова была его цель. Еще до собрания, о котором пишет Чернов, я как-то узнал от товарищей, что Союзный Совет интересуется деятельностью оркестра и хора и обсуждает вопрос о своем отношении к ним. Это учреждение я считал своим детищем и попенял, что меня не спросили. «Да ваше показание там было прочитано», – ответили мне; и мне рассказали, что «снятие допроса» с меня было поручено трем студентам, в том числе моему приятелю А.Е. Лосицкому, позднее известному статистику. Я действительно раз зашел к нему по его приглашению, и мы разговаривали с ним об оркестре и хоре; но он ни слова мне не сказал, зачем и по чьему поручению он со мной говорил. Я после с досадой пенял Лосицкому, что он разыграл со мной комедию. Оказалось, что двое других членов комиссии даже не были в комнате, а слушали разговор из-за двери. Лосицкий был сконфужен и извинялся. Так уже начинались приемы охранки, которые расцвели при большевиках. Но и собрание, о котором пишет Чернов, поступило не лучше. Мне и на нем никто не сказал, что это собрание есть «суд над целым движением». Меня не предупредили, в чем и меня, и других обвиняли. Мой однокурсник по филологическому факультету, с которым мы очень дружили, Рейнгольд, пригласил меня прийти на вечеринку, где несколько человек хотели со мной говорить об оркестре и хоре, о землячествах, о Парижской ассоциации, Монпелье и т. д. Такие разговоры очень часто происходили и раньше. Я был удивлен, застав там в назначенный час целое общество, которое, как мне объяснили, пришло меня слушать. Мне было досадно, что я не приготовил доклада, думая, что будет простой разговор за чайным столом: ни один человек, даже из близких людей, не счел нужным мне сообщить, какая была затаенная цель у собрания.
Я, как правильно вспоминает Чернов, на этом собрании ни на кого не нападал и ничего не пропагандировал. Для этого у меня не было повода. Я только объяснял нашу идею; я указывал, что для одних функций удобны открытые, а для других подпольные организации, что соединение всех функций вместе вредно и для тех и для других. Так как в жизни землячеств есть стороны, в которых можно работать открыто, то неразумно держать их в подполье ради того, чтобы исполнять там, кроме того, и секретные функции. Помню еще, чего, кажется, не помнил Чернов, что в этом со мной согласился сибирский студент-медик СИ. Мицкевич, очень лево настроенный и вскоре сосланный. Но на самом собрании никто мне не возражал и мотивы, которые сейчас против нас приводит Чернов, никем изложены не были.
Я и сейчас, даже после книги Чернова, не знаю, было ли потом, после моего ухода, принято осуждение нас, как резолюция этого собрания, или она была вынесена только инициаторами, то есть Союзным Советом; но мотивы решения, которое тогда было кем-то принято, видны из книги Чернова, и они характерны. Вот что он пишет на с. 114 по поводу проекта о «легализации» землячеств: «Материальная основа взаимопомощи, заложенная в основу нашей организации и подкрепленная принципом земляческого товарищества, обеспечивала широту охвата студенческой массы. Присоединение к этому, отстаивание общими силами достоинства и прав студенчества естественно выдвигало самую деятельную передовую часть его, его авангард, на руководящее место. Раздергать эту организацию по косточкам, выделить „желудочную“ сторону в самодовлеющую, отдать ее под покровительство самодержавных законов – не значило ли это подкапываться под непримиримость студенчества, действовать в духе „примиренчества“ и приспособления к существующему? Нет, мы горой стояли за статус-кво, при котором инициативное меньшинство стояло во главе организации, и притом не путем захвата, а по избранию, когда организация студенчества была интегральной, охватывая все интересы студенчества, материальные и идейно-политические. Такая организация должна быть нелегальной, пока существует самодержавный режим, при котором вне закона все живое. Итак, мы предупредили атаку наших позиций „легализаторами“; мы взяли в свои руки „боевую инициативу“, стали нападающей стороной». В этих словах уже есть намек на ту новую «идеологию», которая привела к большевизму. Союзный Совет уже тогда находил, что он «авангард», что ему поэтому должно принадлежать «руководящее место». Эта мысль нашла свое выражение и в статье 126 сталинской Конституции. Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков является «передовым отрядом» трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляет «руководящее ядро» всех организаций трудящихся. В большевистской конституции так же, как и в мотивах Союзного Совета, как их излагает Чернов, заключается претензия «меньшинства» быть «руководителем», представителем общего интереса и воли. Конечно, тогда такая претензия открыто не излагалась; она слишком бы напоминала «идеологию» самого Самодержавия, с которым тогда все боролись во имя «демократии». Но Союзный Совет вступал на скользкий путь: объявляя сам себя «руководящим ядром», авангардом демократии, он вел к тому, что с цинизмом стала делать советская власть, то есть к запрещению оппозиции, к преследованию и уничтожению всех несогласных, к зачислению их в ряды «врагов народа». Это стало Самодержавием наизнанку. Все это сделалось ясным потом, когда все процессы развились до конца. Тогда же, когда, по словам Чернова, они только брали в свои руки «боевую» инициативу и становились нападающей стороной, бороться с ними лично мне не пришлось; не только потому, что они настоящих карт своих еще не раскрыли и тоталитарных претензий пока не высказывали, но и потому, что тогда я сам уже отходил от общественной работы в студенчестве. Для того направления, которому я лично сочувствовал, не оставалось опоры и в политике власти.