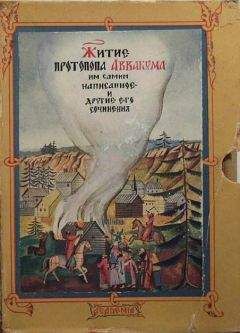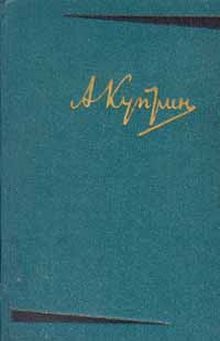Василий Маклаков - Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917
Казалось, все сошло благополучно. Решение состоялось в том смысле, как мы обещали и как хотел попечитель. Деньги великой княгине были отвезены депутацией, в которую вошли председатели и казначеи старой и новой комиссии. Мое участие в этой депутации позднее слева мне поставили тоже в вину. Но, несмотря на благополучный исход, студенческая инициатива с концертом наверху не понравилась. Не понравилось в ней именно то, что нас в ней привлекало: то, что студенты показали себя хозяевами собственного дела, что оказалось необходимым считаться с волей общего собрания, что не начальство, а мы распоряжались. Это противоречило не только духу устава 1884 года, но духу режима.
Несочувствие не замедлило обнаружиться. Наступило время весеннего концерта. Новая комиссия понимала, что давать концерт в свою пользу теперь было еще невозможней, чем осенью, и возбудила вопрос об устройстве второго концерта на тех же основаниях. Но наверху «продолжения» опыта уже не хотели. Попечитель сообщил комиссии, что разрешения на это не будет. Кто на этом настоял – осталось загадкой: решение шло, очевидно, не от него, а против него. Возник вопрос: что же делать? Было последовательно одно: от концерта отказаться совсем; давать его в свою пользу было очевидно нельзя. Хозяйственная комиссия решила предложить это собранию. Она просила меня прийти на собрание, чтобы это ее предложение защищать. Я охотно согласился, хотя в это время у меня была сломана нога, и я мог передвигаться лишь на костылях. Но самому предложению я очень сочувствовал. Но тут произошло нечто неожиданное. В день собрания ко мне приехали от попечителя, напомнить мне, что я у него на поруках, и просить от его имени, чтобы я на собрании не выступал. Концерт в пользу голодающих все равно не будет допущен, и с моей стороны выступление было бы только бесполезной демонстрацией, которая всех нас, в том числе и попечителя, компрометирует. Моя инвалидность создавала для меня отговорку, и я подчинился, так как считал себя обязанным попечителю. Предложение комиссии защищали другие.
Но настроение было не прежнее. СВ. Завадский был главным оратором против проекта комиссии. Он понимал, что мы отдали первый концерт голодающим, но не мог понять, что мы от концерта хотим совсем отказаться. В его воспоминаниях об этом концерте память ему изменила: спорить ему пришлось не со мной. Предложение комиссии защищал ее новый председатель Силинич. При голосовании сошлись голоса правых и левых. Правые не хотели идти против желания власти, а левые защищали нужды студенчества, тем более что новой подписки нам тоже бы не разрешили. А демонстрации за чужой счет они не хотели. Предложение Хозяйственной комиссии было отвергнуто. Несколько членов ее вышли в отставку, и в нее были выбраны «новые люди». Моя личная связь с новой комиссией оказалась этим разорванной.
Мне пришлось столкнуться с этим новым отношением власти к нам и по другому вопросу. Я упомянул, что ушел из Хозяйственной комиссии потому, что затевал новое дело, которое мне казалось еще более благодарным. Вот в чем оно состояло. Студентам было трудно обходиться без литографированных лекций. Издание их сделалось для отдельных студентов источником дохода: издатель нес риск, но зато и наживался; на многолюдных курсах даже чрезмерно. Мы затеяли организовать «общественное издание» лекций, без прибыли. Централизовать издание в одних выборных руках, платить справедливо за труд, но не давать никому наживаться на общей потребности и поставить все дело под контроль выборных студенческих органов. Нас соблазняло, что такая организация была бы более широкой, чем оркестр и хор, охватила бы весь Университет без исключения и показала бы всем преимущество общественной самодеятельности. И инспектор и попечитель опять на это пошли. Профессора нас поощряли. Мы скорее встретили сопротивление в прежних издателях, которых этот план бил по карману. С их стороны предъявлялись разные возражения. Но раньше, чем мы кончили разработку проекта, инспектор нас предупредил, чтобы мы не торопились, что против нас ведется интрига, что нас обвиняют в желании создать свою литографию и собирать суммы на «неизвестные» цели. Могу засвидетельствовать, что об этом тогда мы не помышляли. Говорили тогда же, что возражения исходили не только от студентов-издателей, но и от некоторых профессоров, которые, как Боголепов, сами издавали свои лекции. Не знаю, где была правда, но едва ли для такого отношения властей надо искать особенно глубоких причин.
Позднейшие историки не раз говорили, что оживление общества после уныния 80-х годов началось с голода 1891 года, когда обществу позволили «действовать». Но власть заметила это раньше «историков» и тотчас же стала против этого принимать свои меры. Как на пример укажу на письмо Льва Толстого (в XIII томе его сочинений) – об новом отношении властей к тому, что он для помощи голодающим делал. «Именно теперь, – писал он, – как в нашей Тульской губернии, так и в Орловской, Рязанской, Воронежской и других губерниях принимаются самые энергические меры для противодействия частной помощи во всех ее видах, как видно, меры общие, постоянные. Так в том Ефремовском уезде, куда я направлялся, совершенно не допускаются посторонние лица для помощи нуждающимся. Устроенная там пекарня лицом, приехавшим с пожертвованиями от Вольного экономического общества, при мне была закрыта, и самое лицо выслано. Считается, что нужды в этом уезде нет и помощь в нем не нужна. Так что, хотя и по личным причинам, я не мог исполнить своего намерения и проехать в Ефремовский уезд, поездка моя туда была бы бесполезна или произвела бы ненужные осложнения. В Чернском уезде за это время моего отсутствия, по рассказам приехавшего оттуда моего сына, произошло следующее: полицейские власти, приехав в деревни, где были столовые, запретили крестьянам ходить в них обедать и ужинать; для верности же исполнения разломали те столы, на которых обедали, и спокойно уехали, не заменив для голодных отнятый у них кусок хлеба ничем, кроме требования безропотного повиновения. Трудно себе представить, что происходит в головах и сердцах людей, подвергшихся этому запрещению, и у всех тех людей, которые узнают про него».
Ввиду такой «общей» политики и по такому вопросу нельзя было не признать, что наши надежды на легальное, с содействием властей, улучшение университетских порядков свою почву теряли. В лагере власти совершалась неблагоприятная «смена».
Интересно, что с этим совпадала и перемена в студенческих настроениях. Тогда я ее мало заметил, тем более что с переменой факультета постепенно отходил от своих прежних кругов. Только потом из мемуарной литературы я узнал, что то течение, к которому я принадлежал, стало уже считаться опасным, как способное «понижать» революционное настроение, и что с ним решено было бороться. Мне было самому интересно увидеть освещение с другой стороны того, что я пытался делать тогда; это я увидел из мемуарных воспоминаний этого времени.