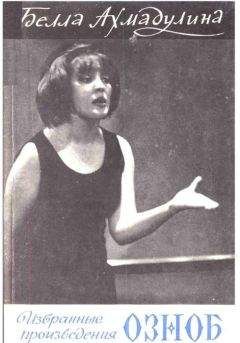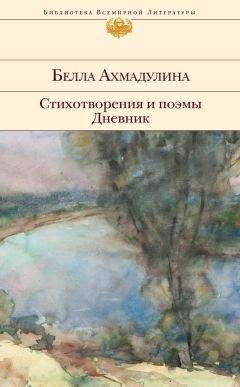Белла Ахмадулина - Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной
1967
«Как я желал осилить перевал…»
Как я желал осилить перевал!
Как перевал моей беды желал!
Я бедствовал. Но, словно весть любви,
Следы мои на нежный снег легли.
Я шел сквозь ветер, как сквозь толщь стены,
Но были горячи мои ступни,
И таял под моей ногою снег.
Так я служил рожденью горных рек.
1967
ЗАВЕЩАНИЕ
В одном из абхазских селений
Пригожий, поджарый, столетний
Жил некогда старец на свете.
И вот что он думал о смерти:
— Кончина — еще не причина
Забыть про родимого сына.
И вот что сказал он:
— О мальчик!
Запомни: велик, но обманчив
Избыток воды поднебесной,
Небесной, соленой и пресной.
Как много пролил ее каждый!
Но каждый терзается жаждой;
Коль путнику лакома влага,
Тебе это прибыль и благо.
Поэтому, сын мой, сыночек,
Заботливо пестуй источник.
Струю утруждай жерновами,
А пламя побалуй дровами,
Чтоб весть о рождении хлеба
Простёрлась от пацхи до неба,
Но, правя огнём и водою,
Не спорь с их старинной враждою.
1967
Из балкарской поэзии
Кайсын Кулиев[194]
ПРИСЛУШАЙСЯ К СЛОВАМ
Прислушайся к словам: «Сегодня снег идет», —
звук стёрся дочерна, но как бела услада!
Прислушайся к словам: «Сегодня льется дождь», —
всего-то, а душа — свежей дождя и сада.
Прислушайся к словам: «Светает на земле», —
лицо — уже светло, еще темна природа.
Прислушайся к словам: «Звезда встает во мгле», —
и обретут слова значенье небосвода.
Прислушайся к словам: «Печется хлеб в печи», —
нет новости старей, и нет желанней вести.
Прислушайся к словам: «Горит огонь в ночи», —
при них тепло, светло, как при тепле и свете.
Прислушайся к словам: «Зеленая трава», —
прислушайся к словам: «Сад расцветает снова», —
и кажется тебе, что мать твоя жива
и прочен на губах вкус молока парного.
Прислушайся к словам: «Уже луна взошла», —
на землю снизойдет покой благословенный.
Прислушайся к словам: «Гора опять бела», —
и мысль соотнесешь с веками и вселенной.
1970
ГОВОРЮ САМОМУ СЕБЕ
Устав, в груди речь пробуди былую,
новы слова, когда печаль стара.
Свободно шествуй, как вода по лугу,
живи, как встарь умели мастера.
Устав, слова усталостью не мучай,
дай им сверкать! Твои луга — везде.
По грудь в траве идет олень могучий
идет, пока не припадет к воде.
Устав, не дай словам изведать дрёму,
струится сердце, как река без сна.
Склон — по траве, ведро — по водоёму
и по словам печалятся уста.
Устав, упейся белизною речи,
не сочетай слова и темноту.
Иди по жизни, как большие реки,
как вольный тур по горному хребту.
1970
«Что бы ни делалось на свете…»
Что бы ни делалось на свете,
всегда желавшем новизны,
какой бы новый способ смерти
ни вызвал старый бог войны,—
опять, как при слепом Гомере[195],
лоза лелеет плод вина,
шум трав и розы багровенье —
всё, как в иные времена.
И слёз о смерти так же много,
и счастлив, кто рождён уже,
и так свежо, так старомодно
бессмертья хочется душе!..
1970
СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ В БОЛЬНИЦЕ
Н. А. Лопаткину[196]
Страданье человека! Милосердным
ты делаешь того, кто человек.
Что было домом — стало пеплом серым,
чернейшим снегом стал белейший снег.
Страданье человека — пепел зёрен,
казненный хлеб, не утоливший рот.
Я видел пепел колоса. Он чёрен.
Люблю смотреть, как зеленеет рожь.
Я тронул пепел дерева рукою
крестьянина, не устыдившись слёз.
Зато зимой я плакал над строкою:
«Весною зацветает абрикос!»
Страданье человека — смысл насущный
хлебов, погибших в пепле и золе.
Я видел горе. Плач детей я слушал.
Так полюбил я радость на земле.
1970
«Деревья, вы — братья мои…»
Деревья, вы — братья мои.
Темнело, но всё же могли
глаза мои видеть при звёздах,
что впали вы в дрёму и отдых,
как путник, как пахарь, как кто-то,
кого утомила работа.
Деревья, я раньше уйду.
Я вам оставляю звезду,
и снег, и рассвет, и пространство,
к которому сердце пристрастно.
Спасибо вам, братья мои,
за то, что метели мели,
за тень и за шорох листвы,
за то, что я — раньше, чем вы…
1970
ЧОККА
В селении Тегенекли,
где, пав с Эльбруса, вдаль текли
река и малость ручейка,
жил, благоденствуя, Чокка.
Он умер в сто шестнадцать лет,
из них сто лет он сеял хлеб,
и ровно сто шестнадцать лет
он видел горы, солнце, лес
и высоко над головой —
свет наших душ, Эльбрус седой.
Здесь скот его, и огород,
и той дороги поворот,
где от мелькнувшего огня
крепчала прыть его коня.
Здесь что ни путь — то перевал,
здесь он на свадьбах пировал,
здесь скорбной сухостью зрачка
на кровь и смерть смотрел Чокка,
но жизни воздавал хвалу,
растил детей, косил траву,
и, поупрямившись сперва,
тащился ослик по дрова.
Так жил он сто шестнадцать лет,
из них двенадцать лет он слеп
от слёз. И там, вдали от гор,
он сам не знал, зачем огонь
он разводил, зачем зерно
лелеял, как заведено.
Пускай минует вас тоска,
которой тосковал Чокка!..
Он умер дома, в декабре,
при белом снеге на дворе.
Навек оставшийся в зиме,
он счастлив, он — в родной земле.
Теперь считать я не берусь,
как часто позволял Эльбрус,
чтобы Чокка пришел туда,
где лишь вершина и звезда.
Кто жил вблизи, кто жил вдали —
всяк ехал, шел в Тегенекли.
Чокка всегда был гостю рад,
для гостя пенился айран[197],
и я недавно и давно
ел хлеб его и пил вино.
Я видел, как он целый день
грёб сено, возводил плетень,
да что там день — почти века
трудился на земле Чокка,
считая не важней тщеты
всё, что сложнее простоты.
Попробуйте-ка так пожить,
так знать рассвет, так стог сложить
и незаметный вечный след
оставить там, где вечный снег.
Жил сто шестнадцать лет Чокка,
ущелья, горы, облака,
дожди, колосья, дерева
любил он больше, чем слова.
А я доверился словам
И жизнь Чокка поведал вам.
1970