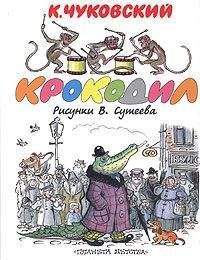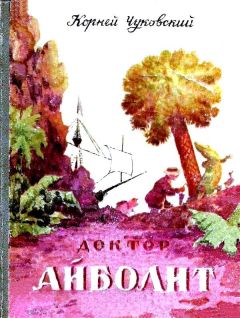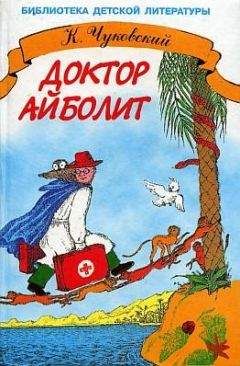Давид Каган - Расскажи живым
В первую ночь выспаться не удалось. Крысы грызли под дверью, пытаясь из коридора проникнуть в мой чулан. Успокоились они только на рассвете. Утром, открыв дверь, увидел изгрызанный порог и рядом кучки мелкой древесины. Крупные звери, как бобры! Ну, да черт с ними! Надо найти Кузнецова, сказать, где я нахожусь, и, может быть, договориться конкретно.
Кузнецова в перевязочной не было. Я посидел в коридоре, подождал. Не заболел ли он? Выйдя из корпуса, встретил полковника дядю Костю и Хетагурова. Поздоровавшись с ними, повернул за угол и здесь наткнулся на Кузнецова. Он сидит и задумчиво ковыряет палкой в земле. Впалая небритая щека золотится на солнце рыжим волосом. Увидев меня, поднялся с камня. Я сообщил, где поместился.
— Знаю я этот угол, — говорит он.
— Каждый день дорог... Мне Тинегин рассказывал, что у вас есть ножницы. Может, согласитесь взять и меня в группу?
Как и при первом разговоре с Кузнецовым я весь в напряжении. Поверит ли? Согласится ли? Покалывает каждую клетку тела, будто электрическим током.
Кузнецов поверил.
— Мы готовы, — сказал он. — Надо только день выбрать. Я вас познакомлю с двумя дружками. Вы будете четвертым, если ребята согласятся.
— С дружками? — спрашиваю я, недоумевая, почему, в таком случае, четвертый, а не пятый. Кузнецов, Тинегин, еще двое и я
— А Тинегин?
Глаза Кузнецова недобро сверкнули.
— А он, что, опять говорит что хочет бежать? О нем у нас разговора нет, мы его уже знаем! Он нам побег сорвал!
— Как сорвал?
— Да так! Договорились, время назначили, когда ползти на проволоку. Ждем его, а он не показывается. Пробрался я к нему, а он, вижу, аж дрожит от страха. Просится: сегодня, говорит, не могу! Вон, говорит, какой ветер, темень, давайте, говорит, завтра. Пока мы его ждали, да я уговаривал, светать стало. Спрятал я ножницы и вот опять сидим. — Кузнецов отшвырнул палку к забору.
— Да... — Я не знаю, что и сказать.
Кузнецов помолчал и энергично добавил:
— Ничего не говорите Тинегину о побеге! Слышите?!
— Как решите! — в тон ему отвечаю я, все еще не понимая, почему Тинегин отказался от побега. Помолчали немного, спрашиваю:
— Какие у вас ножницы?
— Обыкновенные, пехотные. Пробовал: секут толстый гвоздь, не только проволоку.
— У меня приготовлены коптилка и небольшая карта.
— Карта-а? Правильно! А коптилка зачем?
— Из нашего корпуса есть ход в шестой. Я лазил. А там проволока близко.
— Это еще надо обдумать. Тут тоже проволока недалеко. Мы уже наблюдали. На участке между нашим корпусом и комендатурой меньше часовых.
— Ну, как вы решите. Еще поговорим об этом.
— Да, пора идти в корпус, — Кузнецов захромал к дверям.
В радостном волнении возвращаюсь к себе. С этого дня душевная приподнятость не оставляет меня. Есть цель, есть надежда! Что бы ни случилось, все лучше, чем прозябание. Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Уже иначе смотрю на окружающее. Часовые, полицаи, Шоль, пустая баланда, пулеметные вышки, голод — все это меньше угнетает, чем прежде. Это минет! Перетерпим!
Захожу иногда в палату к парализованному Зеленскому. Тут как будто ничего не изменилось. Живут одним: сведениями о фронте. Здесь знают больше, чем где-нибудь в другом месте лагеря. Недаром забегают сюда друзья Зеленского: сообщат свежую лагерную новость, узнают, что думает «академик» о том или ином событии. Если Зеленский разрешает, то я шарю в стружках его дырявого тюфяка, достаю сложенную газету, кладу ее за пазуху и ухожу в свою одиночку.
Сопоставляя сводки нескольких номеров газет, можно сделать вывод, что крупных военных операций в июне не было. Может быть, идет перегруппировка войск с обеих сторон? Много вранья обо всем, особенно о нашей армии и советских людях. Устаю и от перевода, и от душевной тоски. Прочтя статью, чувствую себя оплеванным.
В каптерку постучался больной из ближайшей к коридору палаты.
— К вам идут! — крякнул он а дверь.
Едва удалось сложить газету а сунуть ее в щель между полом и стеной, по коридору послышались громкие шаги. Вошел Шоль.
— Чем занимаетесь? — Быстро окинул взглядом полупустой чулан.
Не успел ему ответить, как он уже залез ко мне в карманы гимнастерки и, ничего там не найдя, прощупал и прогладил бока и брюки. Подбежал к столу, перевернул одеяло и тюфяк. Не обнаружив ничего, злобно погрозил пальцем:
— Газеты читаешь? Смотри-и!
— Нет у меня газет! — развел я руками, опомнившись от молниеносного обыска.
Диплом, зашитый в клеенчатый мешочек вместе с картой, лежит в тюфяке, хорошо, что Шоль не нащупал.
Несколько дней не хожу к Зеленскому, стал осторожней в разговорах с персоналом в больными. Изо дня в день тренируюсь в ходьбе. От окна до двери семь шагов. Туда и обратно — четырнадцать. Повторить сто раз — и это уже почти километр. Чтоб не сбиться со счета, при возвращении к окну гвоздем царапаю на подоконнике.
Кузнецов сам подошел ко мне и сообщил, что ребята согласны включить меня в группу.
— Только Сахно сейчас болен. Надо выждать.
— Что с ним?
— Немного рука распухла, в рубце что-то нарывает. Температура...
— Если сегодня температура не снизится, вы мне скажите, постараюсь порошки достать хоть несколько.
— Скажу.
Смотрю на исхудавшее лицо Кузнецова, на его лоб в ранних морщинах, и у меня срывается:
— Скорей бы уж!
— Понятно, лучше скорей, а то еще в транспорт попадем.
После обыска зашил диплом в подкладку куртки, чтобы не потерять, а карту прячу отдельно, в щель, под подоконником. Она уже порядочно потерлась в сгибах, но бумага толстая и на ней хорошо видны дороги и населенные пункты Восточной Польши, Белосток и окружающие его районы. Карта у меня давно. Однажды, когда работал в туберкулезном корпусе, забрался на чердак, там в мусоре нашел несколько страниц из школьного атласа.
Охрана лагеря все строже и строже. Давно уже не было побегов, а страх у вахткоманды все увеличивается. Знают, что если случится побег, то в наказание не избежать отправки на фронт. В десять часов вечера — поверка. Закрепленный за корпусом ефрейтор сам проверяет по списку. После поверки наружные двери запирают на замок, около здания, с фасада и во дворе, ставят двух часовых в полной боевой выкладке. Девятый корпус содержит самое большое число людей и его охраняют два часовых, около других ходит по одному. Комендант и караульные начальники делают частые обходы постов. Ночью слышны под окнами громкая немецкая речь, лай собак. То с одной, то с другой вышки раздается треск пулемета: в который уже раз пристреливаются к проволоке. Взлетают ракеты, озаряя мертвенным светом и без того хорошо освещенный лагерь.