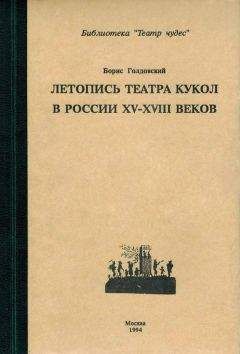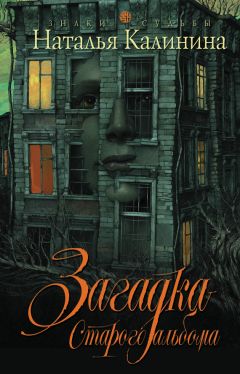Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
Что сказать о составе преподавателей? На кафедре зарубежной литературы стараниями Самарина не оставалось почти никого сколько-нибудь достойного. Одним из исключений был Е.Д.Михальчи, разительно отличавшийся от других и которого Самарин, в конце концов, выжил-таки из университета. Е.Д. мог подшучивать над нами, даже издеваться, сталкиваясь с полным невежеством, говоря в таких случаях, что девственность не всегда добродетель. Но при этом проявлял необыкновенную чуткость на экзаменах и всячески избегал ставить тройки, особенно не москвичам, прекрасно понимая, что для них значит стипендия, но и пятерки ставил очень редко. Как-то он устроил семинар по испанской литературе. Я, хоть и была лингвистом, тоже ходила туда. По семейным обстоятельствам в конце семестра мне пришлось отказаться от семинара и от доклада, который я готовила. Узнав про меня от девчонок и увидев в коридоре, он разлетелся ко мне, прося дать ему зачетку^, чтобы проставить отметку. Я была тронута, но, поблагодарив, отказалась и объяснила, что мне, как лингвисту, иметь отметку по литературоведению не обязательно. Однажды во время сессии наша группа плохо договорилась с параллельной, и в результате утром на экзамен никто не явился. Михальчи, которому мы должны были сдавать, никого не дождавшись, ушел домой. Именно в этот день сообщили об аресте врачей. Когда его с извинениями уговорили вернуться (на что согласился бы не всякий) и принять экзамен, он начал каждого строго допрашивать «Почему опоздали?», когда дошла очередь до меня, он только взглянул на мое мрачное лицо и ничего не сказал.
На языковых кафедрах среди преподавателей было гораздо больше достойных и порядочных людей. Особенно выделялась своей культурой и интеллигентностью Ж.С.Покровская, занимавшаяся с нами латынью. Как-то, когда наша группа собиралась на вечер, а дело было в Страстную субботу, — «Какие же вы нехристи», — возмутилась она. Такие слова в стенах университета произносились не часто. По поводу сосланного С.Маркиша она во всеуслышание заявляла, что студенты, как он, бывают раз в пятьдесят лет. А уж это был из ряда вон выходящий поступок. Но. возвращаясь к студенческому вечеру, хочу отметить, что в церковные праздники, а особенно на Страстной, чуть ли не до конца 80-х вечера и прочие увеселения устраивались совершенно сознательно и планомерно, особенно в школах и институтах, чтобы, не дай Бог, кому-нибудь не пришло в голову отправиться в церковь.
Было на языковых кафедрах немало и других замечательных преподавателей: заведующая кафедрой испанского языка Э.И.Левинтова, которую я нередко встречала на концертах в консерватории. И даже на английской кафедре, несмотря на то, что ее возглавляла Ахманова, были порядочные люди и хорошие педагоги: Э.М.Медникова, Л.Н.Натан, отличавшаяся еще к тому же необыкновенной добротой. В частности, в очень трудный период моей жизни она мне страшно помогла (маме тогда оперировали запущенный рак, и было мало надежды на благополучный исход). В тот год я писала у Лидии Николаевны курсовую и из-за маминой болезни недостаточно хорошо с ней справилась. Когда Л.Н. предложила мне внести некоторые изменения и дополнения, я объяснила, что целыми днями дежурю в больнице и согласна на тройку, а это означало на полгода остаться без стипендии. Она поставила мне четверку или даже пятерку, за что я ей была бесконечно признательна. Как ее терпела Ахманова, я никогда не могла понять.
Не могу не вспомнить и А.Г.Елисееву, одну из самых талантливых преподавателей иностранного языка, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. И это не только мое мнение, но и всех тех, кому посчастливилось у нее учиться. Благодаря ей я просто влюбилась в английский и поняла, как надо заниматься языком, а проведенные до этого два года в испанской группе просто пропали даром, так что овладевать испанским мне пришлось уже самостоятельно после университета, когда я взялась за переводы.
Я сказала «два года», потому что, когда я перешла на третий курс, испанское отделение закрыли. «Опрокинулась романтическая лодочка 39-го года», — как выразился И.Мельчук, учившийся там. Эту фразу передавали из уст в уста все испанисты, — Игорь был очень яркой и популярной личностью на факультете и покорял своей непосредственностью и общительностью, а также неуемной энергией как преподавателей, так и студентов. Перед занятиями он разучивал со всем отделением испанские песни, в основном революционные, вроде Bandera Rosa и др. Я не могла заставить себя вставать на полтора часа раньше, но остальные девочки любили и регулярно посещали эти спевки, а я им подпевала только на обязательных для нас демонстрациях. Позднее он затеял воскресные походы, которые потом так и стали называться испанскими, и продолжавшиеся вплоть до его отъезда; в них принимали участие не только испанисты, но все желающие. Он же один из первых на факультете занялся семиотикой. А испанское отделение, когда я уже кончала, снова восстановили.
В отличие от школы, где я участвовала во всех затеях и развлечениях, в университете, за редкими исключениями, меня не тянуло общаться со своими сокурсниками помимо занятий. Хотя со многими и из своей, и из параллельных групп у меня были вполне дружеские отношения. Но однажды я соблазнилась пойти на вечер, устроенный в клубе для французского отделения. Сначала долго и скучно выступал Арагон, йотом пела Обухова (из-за нее-то я и пошла туда, она в эти годы уже очень редко давала концерты), а затем преподнес свой номер Образцов: он привез пластинки Монтана, тогда у нас еще никому неизвестного. Сергей Владимирович вначале пересказывал содержание песенки, а потом включал то ли радиолу, то ли патефон, слышимость была ужасная, и после первой пластинки он пошутил: «Раз аудитория образованная, то может не стоило бы разъяснять смысл, но теперь, как ему кажется, следовало бы рассказать и звук». В общем, был, как обычно, в своем амплуа, но песенки всем понравились, и преподносил их Образцов очень остроумно. Так с его легкой руки началась популярность Монтана в России.
Что касается моих взаимоотношений с однокурсницами, то дело вовсе не в том, что я смотрела на них сверху вниз. В школе я дружила со всеми без разбора и больше всего именно со шпаной, которая из-за неуспеваемости после 7-го класса разошлась, к моему большому огорчению, по ремесленным училищам. Одна моя подружка была из семьи московских ассирийцев- кинто; они целым поселением жили в каких-то полусараях рядом со школой. После уроков я часто усаживалась рядом с ней и чистила туфли всем желающим. Здесь же, в первую очередь из-за идеологической атмосферы и неприязни к слишком ярым комсомольским деятелям, которых было более чем достаточно, я держалась замкнуто почти со всеми, кроме некоторых исключений, о которых уже упоминалось. А с комсоргом группы у меня как-то произошла стычка отнюдь не на идеологической почве. Мне было 20 лет, когда я вышла замуж, — в ту пору это было редкостью, и ранние браки были не приняты, — так вот эта девица ни с того, ни с сего как-то брякнула: «Занимаетесь всяким развратом»… Я не смогла влепить ей пощечину — нас разделял стол, за которым сидели другие девчонки, но потребовала, чтобы она немедленно взяла свои слова обратно, чего она, разумеется, не сделала. Тогда я посоветовала ей последить за нравственностью своих друзей, комсомольцев, особенно, в общежитии на Стромынке, которое было притчей во языцех; «личные» дела его обитателей разбирались почти на каждом собрании. Подоплека этой стычки, я думаю, все же была идеологической. У нас с ней, невзирая на то, что она была та еще комса, были вполне нормальные отношения, но не чувствовать во мне чуждого классового элемента она не могла.