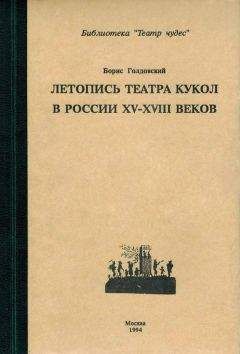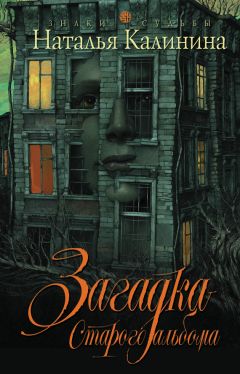Анастасия Баранович-Поливанова - Оглядываясь назад
В не совсем сходной ситуации, но могущей привести к тем же последствиям, некоторые вели себя совсем иначе. Моя подруга, учившаяся на филфаке ленинградского университета, была одной из лучших студенток на отделении, так что все прочили ее в аспирантуру, но, заполняя очередную анкету, в графе «Национальность», она написала «еврейка», хотя по отцу была русская и носила русскую фамилию, а происходило это в разгар борьбы с космополитизмом. Сделала она это совершенно сознательно, именно потому, что слишком многие поступали наоборот, за что, разумеется, их нельзя винить. Двери аспирантуры перед ней захлопнулись, и она отправилась по распределению в Днепропетровск, где и проработала несколько лет.
От этого же знакомого мне хотелось услышать, что он думает по поводу работы «Марксизм и вопросы языкознания», которую «внедряли как картошку при Екатерине» и которую студентов и преподавателей заставляли цитировать на каждом шагу: без ссылок на этот научный шедевр не обходилась ни одна курсовая, ни одна статья, ни дипломная, ни диссертация. «В ней много здравых мыслей», — услышала я от него.
В таком же роде повела себя одна наша преподавательница, бывшая чем-то вроде куратора группы, когда мы пожаловались ей на слишком свирепствовавшую преподавательницу марксизма. Отличалась она не только этим: она требовала, чтобы мы, упоминая, к примеру, Троцкого или другую одиозную фигуру, говорили не просто «Троцкий», а «предатель Троцкий» и вообще выступали «побоевитее». И не уставала напоминать: «Товарищ Берия ведает у нас кое-чем». И вот, посидев на семинаре, наша преподавательница испанского заявила: «Вам просто повезло, я еще не разу не встречала такого замечательного преподавателя марксизма». Ее, разумеется, легче извинить, — говорилось это в стенах университета перед студентами, среди которых нашлось бы немало охотников заявить, куда следует, ответь она по-другому, к тому же еще она была еврейка.
Лет через десять я столкнулась с нашей мегерой в коридоре какой-то ведомственной поликлиники. Она постарела и с трудом передвигала распухшие ноги, так что мне невольно вспомнилась «Правая кисть» Солженицына.
В эти же годы мама подрабатывала в <-Пионерской правде», отвечая на письма ребят. Но для того, чтобы получить на это право, даже не для зачисления в штат, необходимо было представить две рекомендации членов партии. Мама стала в тупик — среди близких знакомых таких просто не существовало. Наконец все-таки вспомнила кое-кого из друзей, которых знала еще по чеховской студии (теперь они играли в МХАТе), и эти старые друзья отказались дать требуемые рекомендации. Не помню уж каким образом маме удалось их раздобыть. В сущности, эти поступки одного и того же порядка, и градации не так уж существенны, а порождались они все тем же чувством страха.
Атмосфера в университете была гнетущая, и в отличие от школьных лет, студенческие годы я вспоминаю без всякого удовольствия. В каждой группе и не только в это время были стукачи. У нас эту функцию выполняла староста, уже взрослая женщина, член партии. Она брала уроки латыни у одного моего знакомого и очень интересовалась мной и все тем же, никому не дававшем покоя фактом, почему я не вступаю в комсомол. О ее расспросах тот поторопился поставить меня в известность.
Помимо «работы» стукачей существовали другие более невинные формы доносов. Одна активная девица из параллельной группы, присутствовавшая на нашем коллоквиуме по западной литературе, поспешила написать в стенгазете о том, как мы плохо отвечали на вопросы. Между прочим, от нее же на воскреснике при постройке университета, куда нас гоняли убирать мусор, когда мне показалось, что мы достаточно потрудились и можно разойтись по домам, я услышала: «А коммунизм кто будет строить?». Нам не оставалось ничего другого, как снова впрячься в тачки. Признаться, как до этого, так и после, я слышала подобное только с трибун или в кино. Впрочем, стоит ли удивляться, когда теперь, при том, что известно если не все, то более чем достаточно, опять уже давно «не призрак и не по Европе…»
Нельзя сказать, чтобы состав студентов (я говорю о своем курсе) за редчайшими исключениями был особенно ярким. Немногие занимались всерьез и с увлечением. Больше всего это относится к испанскому отделению, куда лишь единицы подавали заявления, а остальные зачислялись из тех, кто не набрал достаточное количество очков, на другие языковые кафедры. Почти все девчонки говорили только о тряпках, прическах, увлекались Шульженко, рассказывали скабрезные анекдоты, а на старших курсах, вышедшие замуж, делились интимными подробностями супружеской жизни. Те, которые были на три-четыре потока старше или, наоборот, поступили после 53-го года, резко отличались в лучшую сторону. Самое безотрадное впечатление производили испанцы, те самые, которых маленькими детьми вывезли из Испании. (Исключение составляли те, кто приехал с родителями и жил в семье). Они плохо владели и русским, и испанским, а остальные предметы давались им с еще большим трудом. Они воспитывались в интернатах и были очень плохо подготовлены, а вернее просто заброшены. Их судьба трагична от начала и до конца. В какой-то мере это относится и к нашему преподавателю разговорного испанского камарада Месегеру, как нам велено было его величать. По приказу испанской компартии его, как и многих других, заставили вернуться на родину, чтобы там опять готовить революцию. А он только что получил комнату, о которой долго мечтал, дочка училась в русской школе, да и сам он обрусел, и ему совсем не хотелось уезжать. В Испании он порвал со всякой подпольной работой и занимал скромную должность бухгалтера на фабрике брата.
Что сказать о составе преподавателей? На кафедре зарубежной литературы стараниями Самарина не оставалось почти никого сколько-нибудь достойного. Одним из исключений был Е.Д.Михальчи, разительно отличавшийся от других и которого Самарин, в конце концов, выжил-таки из университета. Е.Д. мог подшучивать над нами, даже издеваться, сталкиваясь с полным невежеством, говоря в таких случаях, что девственность не всегда добродетель. Но при этом проявлял необыкновенную чуткость на экзаменах и всячески избегал ставить тройки, особенно не москвичам, прекрасно понимая, что для них значит стипендия, но и пятерки ставил очень редко. Как-то он устроил семинар по испанской литературе. Я, хоть и была лингвистом, тоже ходила туда. По семейным обстоятельствам в конце семестра мне пришлось отказаться от семинара и от доклада, который я готовила. Узнав про меня от девчонок и увидев в коридоре, он разлетелся ко мне, прося дать ему зачетку^, чтобы проставить отметку. Я была тронута, но, поблагодарив, отказалась и объяснила, что мне, как лингвисту, иметь отметку по литературоведению не обязательно. Однажды во время сессии наша группа плохо договорилась с параллельной, и в результате утром на экзамен никто не явился. Михальчи, которому мы должны были сдавать, никого не дождавшись, ушел домой. Именно в этот день сообщили об аресте врачей. Когда его с извинениями уговорили вернуться (на что согласился бы не всякий) и принять экзамен, он начал каждого строго допрашивать «Почему опоздали?», когда дошла очередь до меня, он только взглянул на мое мрачное лицо и ничего не сказал.