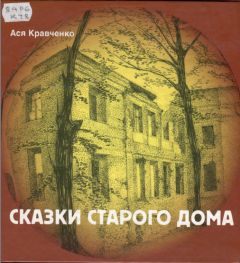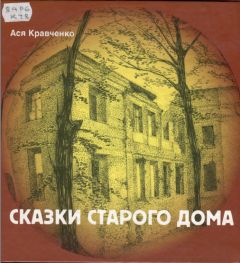Николай Смирнов - Золотой Плес
И молодая женщина, посмотрев на Софью Петровну доверчивыми глазами, снова благодарно улыбнулась.
Так оно, конечно, и было: невиданная и неслыханная новость передавалась от дома к дому, от соседа к соседу, а свекровь и золовка Елены Григорьевны долго находились как бы в столбняке. Они даже боялись подходить к комнате Елены Григорьевны: что-то очень страшное - сильнее и страшнее смерти - смотрело и дышало из этой двери, за которой все еще теплилась и потрескивала лампадка.
- Ох и горе свалилось на наши головушки! - с ненавистью причитала обезумевшая свекровь. - Знаю, чувствую - это проклятая цыганка, что жила у Ефимки-огородника, сманила и увезла ее.
- Ну, матушка, - умильно говорила золовка, - порядочную никто не сманит. Видно, в веселый дом захотелось. Там оденут ее в турчанское платье, дадут в руку дудку или бубен, как шарманщице, заставят играть, плясать, кудесничать...
- Батюшки! - завопила свекровь. - Ионушка, сынок ты мой, позор-то, позор-то какой перед всем честным народом!
Около дома собирались, прохаживались соседи, смотрели в окна, что-то говорили друг другу. На окнах опустили занавески.
С любопытством расспрашивали Ефима Корнилыча.
- А ну вас, ничего я не знаю, - отмахивался он и уходил в дом.
Дома бродил по коридору, где, как и вчера, полыхали печи, заглядывал в опустевшие комнаты. Их уже убрали по-домашнему, по-праздничному, но и в этом привычном убранстве остро чувствовались следы летних гостей: забытая черепаховая гребенка, все еще благоухающий флакон, обжатый тюбик с краской, дымный ружейный патрон, пушистое вальдшнепиное крыло.
Ефим Корнилыч вдыхал незнакомый московский запах, перекатывал нa руке медную гильзу, смотрел в окно на Волгу, которая зacтывaлa покрывалась прозрачной лазурью льда.
За Волгой, в доме Фомичева, царило веселье. Иван Федорович бражничал: чуть ли не целый табор цыган - тот, в котором он познакомился с художником, - расположился в натопленных и уютных комнатах. Цыгане пили вино, буйно приветствовали хозяина: «Выпьем мы за Ваню, Ваню дорогого!..» - а он, в охотничьей поддевке, в чесучовой рубахе, перетянутой наборным кавказским ремнем, в синих шароварах и узких сапожках, весело прохаживался среди них, перебирая струны гитары. Вот он приосанился, завил ус, заиграл что-то старинное, бесшабашно-томительное - и молодая таборная красавица, сбросив зеленую шаль, повела плечами, зазвенела стеклышками монист и, извиваясь, пошла постукивать легкими маленькими полусапожками. Она обдавала его своим дыханием, своим лесным осенним запахом, неотрывно смотрела влажными черными глазами - и Иван Федорович вскрикнул и, не выпуская гитары, тоже зачастил, приговаривая: «Эх, эх, раз, еще раз...»
У Петра Ивановича Альбицкого шел урок русского языка. Оп стоял за кафедрой и, чувствуя, как дрожит его голос, читал любимое, пушкинское, трогающее одинаково и молодое и стариковское сердце:
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед...
Сквозь ворожбу стихов он видел первый снег, теплую комнату, охотничьи сборы, слышал голос дочери хозяина, старого волжского капитана, - русой, синеглазой Маши...
Пришла и его, Петра Ивановича, пора: уже заказаны обручальные кольца, уже приглашен шафер - Иван Николаевич Вьюгин.
Иван Николаевич скучал в своем магазине. Он растопил - до солнечного зноя - железную печку в теплушке, раскрыл Достоевского, потом стал думать о только что услышанном побеге жены Прошева, дивясь ее решительности и смелости, о своей жизни. Он был молод, ему хотелось жить, любить, - все представлялся почему-то образ Золушки, какие-то несбыточные весенние зори, прохладный куст сирени, белое платье в березовой роще, где распускаются ландыши, - и он достал заветную тетрадь, стал записывать крупным, красивым почерком:
Они встречались на заре,
Они встречалися случайно,
Когда весь мир дремал, как тайна,
В своем росистом серебре...
А младшие Вьюгины - Виктор и Гавриил Николаевичи - пропадали в подгородных лесах. Они стреляли белок, зорко высматривали цвелых зайцев, дремавших в немыслимом буреломе. Шустрая и звонкая лайка Скрипка искала с вдохновением и ожесточением, и по лесу часто рассыпался ее призывный голос. Виктор Николаевич подходил к елке, под которой металась, обкусывая сучья, собака, вынимал из-за пояса топор, с размаху ударял но стволу, до самой вершины наполняя его дрожью, и говорил, показывая вверх:
- Хороша белочка. Бей, Ганя!
Гавриил Николаевич поднимал ружье, раздавался глухой выстрел, и легкий, изящный зверек комочком срывался вниз.
- Одна-другая, - глядишь, на курточку и наколотим, - посмеивался Гавриил Николаевич.
Потом они отдыхали - наполняли чайник стылой водой, разводили и «теплинку», дышали смолистой горечью дыма, грелись густым чаем.
Стоял полдень, сиял прощальный осенний день на земле, но лес темнел и темнел, сливаясь с небом, наполняясь запахом невидимого, но чувствуемого снега.
- Притуманилось, - весело сказал Гавриил Николаевич.
Виктор Николаевич добавил, понюхав воздух!
- Зимой запахло.
Он посмотрел кругом: рядом на смороженном березовом листке вспыхнула как бы сухая капля, крошечная перловая звездочка.
- Вот и пороша, - в один голос сказали охотники.
Снег стал густеть, валить бесшумными хлопьями, засыпать землю непорочной, первозданной чистотой. Заметая пути-дороги, он валил весь день, всю ночь - и над забытым, безвестным городом, и над шумной Москвой, где на Ярославском вокзале стоял, вглядываясь в подбегавший поезд, одинокий, сутулый человек в форме военного врача, в мешковатой светлой шинели.
Глава шестнадцатая
Белым снегом, талой водой шумят и проносятся годы.
Никого, никого не осталось в живых из тех людей, о которых говорится в этом повествовании.
Вечным сном спит на Новодевичьем кладбище великий русский художник.
Давно нет на земле и долго сопутствовавшей ему милой, несчастной, грешной и прекрасной женщины с глубоким и страстным сердцем.
Почти вся когда-то большая и дружная семья Вьюгиных успокоилась на родном захолустном погосте, на тихой, ныне совсем заброшенной Пустыне. Зарастают и обваливаются одинокие могилы, крепко лежат на них круглые волжские камни.
И только мы, последние их потомки, приносим во время своих наездов в родной город скромный дар на могилы отца и его братьев - цветы и поклоны...