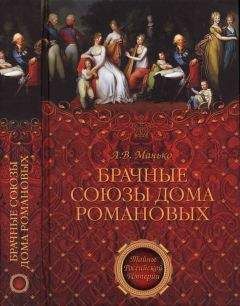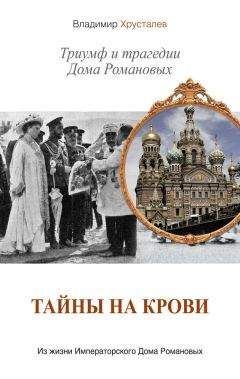Лев Лосев - Иосиф Бродский
Озарение в Норенской
За чтением английских стихов в Норенской Бродский однажды пережил то, что в религиозно-мистической практике называется моментом озарения (греч. epiphaneia, (богоявление). Описывал он это так: «По чистой случайности книга (антология английской поэзии. – Л. Л.) открылась на оденовской «Памяти У. Б. Йетса». <...> Восемь строк четырехстопника, которым написана третья часть стихотворения, звучат помесью гимна Армии Спасения, погребального песнопения и детского стишка:
Time that is intolerant
Of the brave and innocent,
And indiffirent in a week
To a beautiful physique,
Worships language and forgives
Everyone by whom it lives;
Pardons cowardice, conceit,
Lays its honours at their feet.
(Время, которое нетерпимо / К храбрым и невинным / И за одну неделю становится равнодушно / К красивой внешности, / Поклоняется языку и прощает / Каждого, кем язык жив; / Прощает трусость, тщеславие, / Складывает свои почести к их стопам.)
Я помню, как я сидел в избушке, глядя в квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочел, наполовину сомневаясь, не сыграло ли со мной шутку мое знание языка»[254].
Сами по себе эти два четверостишия в стихотворении Одена не были рассчитаны на такой эффект, более того, он позднее вообще исключил эти две и следующую за ними строфу из стихотворения. Оден обронил афоризм о Времени, поклоняющемся Языку и, таким образом, дающем отсрочку от забвения языкотворцам-поэтам, в попытке разрешить свои тогдашние сомнения. Стихи на смерть Йетса он писал в 1939 году, когда переживал глубокий идейный кризис (это первое стихотворение, написанное им после переезда в Америку). Тогда он еще не расстался с левацкими политическими взглядами, в философском отношении оставался материалистом и хотел объяснить самому себе величие мистика и «реакционера» Йетса, а также двух других поэтов, сильно повлиявших на него – апологета британского империализма Киплинга и консервативного католика, антисемита Поля Клоделя. За восемью строками, так поразившими Бродского, непосредственно следует:
Time that with this strange excuse
Pardoned Kipling and his views,
And will pardon Paul Claudel,
Pardons him for writing well.
(Время, которое, с таким странным оправданием, / Помиловало Киплинга с его взглядами, / И помилует Поля Клоделя, / Милует его (Йетса) за то, что писал хорошо.)
В разговорах Бродский нередко цитировал эти строки в слегка переиначенном виде: «А некоторых Бог помилует за то, что хорошо писали».
Как нам кажется, в сознании Бродского случайно открывшиеся, как при гадании по книге, строки Одена сфокусировали в себе два направления его самых глубоких размышлений, сомнений и переживаний в этот период. Во-первых, это религиозно-этическое переживание вины и прощения. Бродский был осужден и сослан безвинно, но ему было свойственно ощущение экзистенциальной виновности (отчего он и называл впоследствии свою этику «кальвинистской»; см. об этом в главе VII). Хотя по Хайдеггеру экзистенциальная вина есть неизбежное условие человеческого существования, ложных выборов, сделанных в «бытии-к-смерти», или отказа от выбора, она из смутно-невротического состояния могла трансформироваться и в конкретное чувство моральной виновности – перед родителями, перед любимой женщиной, перед старым колхозником, встреченным в «Столыпине». Как мы знаем, в то время только Ахматова поняла эту сторону нравственного кризиса, пережитого Бродским в ссылке, и сравнила его с кризисом, пережитым Достоевским в «мертвом доме». Прочитанные как оракул строки Одена сулили прощение при условии честного служения своему призванию: быть одним из тех, кем живет язык. Для Бродского нравственными примерами такого служения были Оден и Ахматова. Он и написал потом об этих своих двух наставниках практически одинаково. Об Одене в прозе: «Если бы я вообще его не встретил, все равно существовала бы реальность его стихов. Следует быть благодарным судьбе за то, что она свела тебя с этой реальностью, за обилие даров, тем более бесценных, что они не были предназначены ни для кого конкретно. Можно назвать это щедростью духа, если бы дух не нуждался в человеке, в котором он мог бы преломиться. Не человек становится священным в результате этого преломления, а дух становится человечным и внятным. Одного этого – вдобавок к тому, что люди конечны, — достаточно, чтобы преклоняться перед этим поэтом» (1983; курсив мой. – Л. Л.)[255]. Об Ахматовой – в стихах (1989), где он благодарит ее за то, что она нашла «слова прощенья и любви»:
...затем, что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.
Этика прощения и любви – христианская этика, но в «стишке» Одена, воспринятом как собственное моральное кредо, присутствует и дохристианское, античное, аристотелевское понимание добродетели как доведения до совершенства природных способностей. Писать хорошо становится для Бродского нравственным долгом.
Во-вторых, Бродский разглядел в магическом кристалле, которым представилось ему восьмистишие Одена, ответ на столь важные для него вопросы о природе языка и времени. Бесхитростные слова английского поэта утвердили его в представлении о примате языка над индивидуальным сознанием и над коллективным бытием. Эти идеи были растворены в воздухе эпохи как радиация экзистенциальной философии Хайдегтера, культурологии Сепира и стремительно расширявшей сферу влияния семиотики. С точки зрения семиотики, все сущее было системами знаков, языками; жизнь представлялась паутиной коммуникативных связей – передачей сообщений, их получением, искажением, неполучением (даже вера в Бога, как агностически напишет в «Разговоре с небожителем» Бродский, «есть не более чем почта / в один конец»). Сепир сравнивал структуру языка с бороздками граммофонной пластинки – человеческая мысль может двигаться только по этим бороздкам. Хайдеггер учил, что бытие осуществляется в языке. Оден добавил к этому, что язык нуждается в поэтах для того, чтобы оставаться живым языком. Оден, конечно, повторял здесь старую истину, и Бродский слышал это прежде. В конце концов, на это указывает даже сама этимология слова «поэзия» – от греческого poiesis, «делание», то есть делание, создание языковыми средствами того, чего прежде не было. Но в момент тяжелых сомнений, близости к отчаянию, слова Одена помогли Бродскому утвердиться в правильности выбранного пути.
Судя по всему, спасительное столкновение со строчками Одена произошло поздней осенью, а в начале января из передач западного радио Бродский услышал о смерти Т. С. Элиота и 12 января закончил «Стихи на смерть Т. С. Элиота», с первой строкой, которая показалась многим пророческой тридцать один год спустя в отношении самого Бродского: «Он умер в январе, в начале года...» На самом деле это был просто приблизительный перевод первой строки стихов Одена на смерть Йетса: «Он исчез в самой середине зимы...» («Не disappeared in the dead of winter...»). В целом стихотворение имитировало трехчастную структуру элегии Одена. В первой части развертывается сравнение поэзии со временем и времени с океаном. Время циклично: повторяются дневной, недельный, годовой циклы, и поэзия основана на регулярной повторяемости – звуков (в частности, в окончаниях строк – рифме), ритмических фигур, образов, мотивов. Время изображено как океан с его ритмами приливов и отливов, волнообразования. К этому сложному, «метафизическому» сравнению он еще вернется десять лет спустя в стихотворении из цикла «Часть речи», которое начинается: «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле / серых цинковых волн, всегда набегавших по две, / и отсюда – все рифмы...» Картина замерзшего после зимних праздников мира дана в кинематографической смене планов – от наезда на выметаемые «за порог осколки» до взгляда из стратосферы на океан и континент. Образы конкретны, вещны, как того требовал Элиот. Но вторая и третья части пастиша уступают в зрелости мысли и внятности выражения образцу – элегии Одена. Оден, когда умер Йетс, был и гораздо старше, и значительно более зрелым поэтом, чем Бродский в двадцать четыре года. Бродский только еще начинал выбираться на свою собственную дорогу, и законченное 12 января 1965 года стихотворение было лишь первой вехой на этом пути.