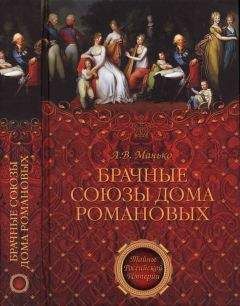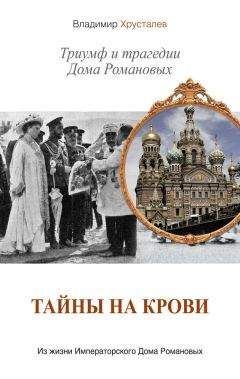Лев Лосев - Иосиф Бродский
Как известно, поэтика барокко, отвергнутая в период классицизма и забытая романтиками, возродилась в модернизме – сначала в поэзии французских символистов конца девятнадцатого века, позднее как исторически осмысленная программа у английских имажистов Эзры Паунда и Т. С. Элиота, чьи идеи и творчество глубоко повлияли на англоязычную поэзию двадцатого века. Однако в новом воплощении метафизическая метафора предстала сконденсированной: сложное логическое построение, объясняющее, каким образом поэт сопрягает далековатые понятия, опускается в расчете на восприимчивость подготовленного читателя. Таковы, например, у Элиота начальные строки «Любовной песни Дж. Алфреда Пруфрока»:
When the evening spread out against the sky
Like the patient etherized upon a table.
(Когда вечер распростерт на небе, / Как пациент под наркозом на столе.)
Принципиально сходная метафорика характерна и для русского модернизма. Сравните, например, с цитатой из Элиота метафору Маяковского в «Облаке в штанах»: «Упал двенадцатый час, / как с плахи голова казненного». Или у Пастернака о возлюбленной в стихотворении «Из суеверья»: «Вошла со стулом, / Как с полки жизнь мою достала / И пыль обдула». Метафору Пастернака вполне можно представить себе и у барочного поэта семнадцатого века, но там она была бы более «объяснена»: моя жизнь была подобна книге (такое сравнение, кстати, встречается у Донна), долго пылившейся на верхней полке в библиотеке, и как взыскательный читатель приходит в библиотеку, встает на стул, чтобы дотянуться, достает книгу и обдувает с нее пыль, прежде, чем раскрыть, так и ты... и т. д.[247] При всех индивидуальных различиях принципиально тот же тип сконденсированной метафизической метафорики характерен и для Цветаевой, и для Мандельштама и, скорее всего, именно это имел в виду Бродский, когда писал Гордину, что «метафора – композиция в миниатюре». Во второй половине шестидесятых годов он тоже пришел по преимуществу к этой форме метафоризации. Два характерных примера из стихотворений 1968 года (оба из ОВП).
На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшимся в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться...
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников – скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.
Мы видим, однако, что, в отличие от своих непосредственных предшественников в отечественной поэзии, Бродский, экспериментируя с архаическими барочными приемами, как бы разыграл в своем становлении предысторию модернистского мироощущения и связанного с ним способа метафоризации[248]. Порой он делал это не без урона для эмоциональной выразительности (достаточно сравнить «Пенье без музыки» и связанное с ним биографическим сюжетом «Сохо», чтобы увидеть, насколько эмоционально сложнее и напряженнее более позднее, лишенное архаических развернутых метафор стихотворение). Видимо, по каким-то внутренним причинам Бродский ощущал необходимость выполнить уроки семнадцатого века и заделать брешь в истории русской поэзии. Нельзя сказать, что эта поэзия вообще упустила поэтику барокко. Бродский любил указывать на вполне донновские строки Антиоха Кантемира, цитировал барочные русско-украинские стихи Григория Сковороды и усматривал барочное мироощущение у Державина и даже у Баратынского, но органический сплав интеллектуального и эмоционального дискурса, равно характерный для барокко и модернизма, он усвоил прежде всего из углубленного чтения английских стихов при свете свечи в русской северной избе – окружающая обстановка там мало изменилась с семнадцатого века.
Сказать, что в Норенской началось и радикальное расширение жанрового репертуара в поэзии Бродского, – значило бы оставаться на поверхности явления. Радикальные перемены произошли в структуре самой поэтической личности, и этому новому «я» понадобились новые формы самовыражения. Подобно тому, как на ленинградском судилище спасительным оказалось умение отстраняться от самого себя и происходящего, так на рубеже 1964–1965 годов Бродский осознал, какие возможности открываются в отчуждении автора от авторского «я» текста.
Это – лучший метод
Сильные чувства спасти от массы
слабых. Греческий принцип маски
снова в ходу.
Наиболее очевидно новая авторская позиция проявилась в стихах жанра, который в русской лирике двадцатого века воспринимался как устарелый или маргинальный, а именно, за неимением лучшего термина, в фабульных стихах. В девятнадцатом веке «рассказ в стихах» был весьма популярен: «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, думы Рылеева, исторические баллады А. К. Толстого и такие фабульные стихотворения, как пушкинский «Анчар», «Умирающий гладиатор» Лермонтова, «Влас» Некрасова – лишь несколько из великого множества примеров. К двадцатому веку этот жанр себя изжил, хотя по-прежнему писалось и печаталось великое множество фабульных стихов, как мелких, так и длинных поэм. Такие вещи были «понятнее народу», то есть на самом деле идеологическим контролерам культурной продукции в советской России, и, конечно, только такая поэзия могла служить целям пропаганды. Но высокий модернизм в русской поэзии почти полностью исключал фабульность. И экстатическая лирика раннего Маяковского или Цветаевой, и эмоционально сдержанные авторефлексии Ахматовой, и культурологические медитации Мандельштама, так же, как лирика Анненского, Блока, Пастернака, Есенина, были нацелены на предельно аутентичное самовыражение. Идеал такой чистой лирики – полная идентичность автора и «я» текста. Лирика такого рода всегда эмотивна, и эмоция в стихотворении всегда выражена отчетливо. Горе, отчаяние, презрение и ненависть к окружающему миру во «Флейте-позвоночнике» и «Облаке в штанах» Маяковского, «Поэме конца» и «Поэме горы» Цветаевой, или восторг, натурфилософский энтузиазм в стихах сборника «Сестра моя жизнь» у Пастернака, или взволнованная торжественность, подчеркнутая важность поэтического размышления в таких стихах Мандельштама, как «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Золотистого меда струя из бутылки текла...» или «С миром державным я был лишь ребячески связан...», а чаще всего – от Анненского и Блока до Есенина – тоска существования и связанное с ним чувство жалости к самому себе.
С точки зрения прагматики поэтического искусства можно сказать, что лирика такого рода устанавливает интимную, симпатическую связь между автором и читателем. Чувства, переживания, испытываемые поэтом, универсальны и, стало быть, заразительны. Как объяснял Толстой в трактате «Что такое искусство»: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их»[249]. Для лирического стихотворения, таким образом, замена «я» «другим», вымышленным персонажем, тем более помещенным в обстоятельства, которые заведомо не соответствуют обстоятельствам жизни автора, разрушительная степень условности. Поэтому даже большие поэмы русских модернистов интимно-исповедальны (вышеупомянутые поэмы Маяковского и Цветаевой, поэмы Пастернака, в которых лирическая исповедь заглушает сюжет, будь то революция 1905 года, бунт лейтенанта Шмидта или биография Марии Ильиной). Исключения в русской модернистской поэзии составляют чисто экспериментальные стихи (например, у Брюсова или Сельвинского), поэма Блока «Двенадцать», популярные баллады раннего Тихонова, некоторые стихи Багрицкого, но и эти поэты оставались главным образом в русле той же интимно-лирической традиции. Единственный большой русский поэт двадцатого века, чье основное творчество из этой традиции выламывалось, – это Михаил Кузмин. От ранних «Александрийских песен» до позднего сборника стихотворных новелл «Форель разбивает лед» Кузмин использовал в лирике греческий «принцип маски», нередко писал стихи «как прозу», то есть в форме рассказа о «другом» («других»), с фабулой, иногда даже весьма сложной.