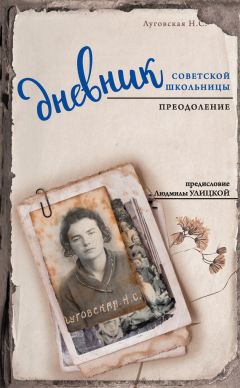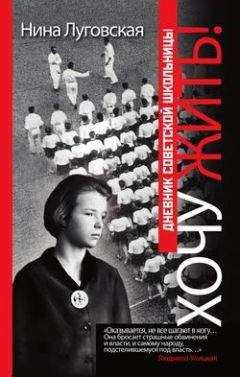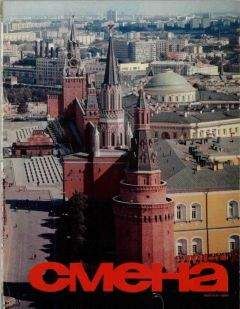Хочу жить! Дневник советской школьницы - Луговская Нина
А тут еще Женька! Как это ужасно полюбить того, кто к тебе не только равнодушен, а просто не замечает, разговаривая так же, как с Бетькой, а иногда взглядывает так, как глядят на неодушевленную принадлежность комнаты. Я сама не знаю, чего хочу, в душе смутно и темно, как в реке в половодье. И я знаю – меня скоро прорвет. Как это выйдет, еще не знаю, но только я или расплачусь как-нибудь, или, чтоб убежать от себя и от одиночества, уйду в школу забываться в грубом и развратном флирте, или, может быть, отравлюсь. Я чувствую, как что-то подступает и заволакивает, – и нет никаких сил бороться с любовью и тоской.
Хоть бы был у меня какой-то интерес, какие-то действия, какие-то люди. Надо отвлечься – это первое средство от болезни, называемой любовью, а я целый день одна, целый день борюсь со своими мыслями, мечтами и желаниями. Нервы напрягаются, изнашиваются и почти ощутимо болят. И главное – болит душа. Как будто там что-то постороннее находится и давит, сосет… И если б я что-то определенно знала о рабфаке, знала, что туда-то надо готовиться, это придало бы мне сил, а тратить столько энергии, силы и напряжения на нечто я не могу. Я чувствую, как вся моя уверенность мои мечты о будущем иссякают, их нечем поддержать, нечем возобновить. Я, кажется, даже начинаю свыкаться с мыслью о школе, но… нет, это невозможно.
Странный у меня сегодня день. Вчера поздно, когда я уже легла спать, пришли сестры. Что меня надоумило встать? Я надеялась, что они что-нибудь расскажут и хоть мельком упомянут имя его, но этого не случилось. Как-то разговор у нас зашел на самую опасную тему: о советской власти, о большевиках, о современной жизни. Мы всегда были на различных полюсах, мы были точно слепой со зрячим, которому этот последний старается объяснить цвета. Мы не могли понять друг друга…
Ну что можно было возразить против непродуманных заученных фраз: «Кто не за большевиков, тот против советской власти», «Все это временно», «В будущем будет лучше»? Временно эти пять миллионов смертей на Украине? Временно шестьдесят девять расстрелянных? [38] Шестьдесят девять!! Какое государство и при какой власти с такой холодной жестокостью выносило подобный приговор? Какая нация с такой рабской покорностью и послушанием поддакивала и соглашалась со всеми творимыми безобразиями? Мы проговорили целый час, и каждый, разумеется, остался при своем мнении. Как я злилась и проклинала свою глупость и неумение говорить, как я могла с таким сильным оружием, как жизненная правда и факты, не доказать сестрам всей лжи большевистской системы? Правда, для этого нужно иметь редкостную бездарность!
О дальнейшей моей судьбе мне надо решить самой. Женя, Ляля заняты собой и художеством, мама – работой. Никто не посоветует мне, как надо сделать, никто не захочет понять, как мне трудно и страшно. Сегодня пришел отец. Он принес вести из Полиграфического института. Слабая надежда на поступление есть. И когда эта мечта начала воплощаться в жизнь, я вдруг почувствовала не только страх, но и просто свое нежелание. И не могла не засмеяться, наконец-то поняв, что все мои помыслы направлены лишь к нему, к тому, чтобы:
Не жажда ученья и даже не жажда попасть в другую среду руководила моими желаниями. И мне стало страшно. В Текстильный институт я попасть не могу, а все остальные для меня становятся уже совсем неинтересными. Я сама только сегодня поняла, что вся движущая сила, вся энергия моя – не что иное, как любовь. Как были бы поражены и шокированы мои родители, если бы узнали, что дочь их предается таким глупым чувствам, что ради них она собирается устраивать такую генеральную ломку своей жизни.
Удивительно, почему все для меня кончается трагедией? Кончается – пишу я, потому что это конец любви к нему, конец моим мечтам и ожиданиям. Мне смешно вспоминать, что всего два-три дня назад я боялась, что мое увлечение пройдет, мне нравилось, что оно давало мне новые интересные и острые ощущения, заставляло сильнее биться сердце, как-то волноваться самой и испытывать небывалое раньше чувство радости. Я шутила и играла с любовью, она ласково щекотала меня мягкими лапками, под которыми оказались вдруг очень острые коготки. И до той минуты, пока коготки не показались, мне было приятно. Как можно в один вечер в какие-то два-три часа перечувствовать столько различных и непохожих друг на друга ощущений? И такой вечер был у меня вчера.
Начинался вечер, как и все, с робкой и сладостной надежды на то, что Женька придет, и с шести часов я ждала его все сильнее и сильнее, но уже с привычным спокойствием и терпением. Меня занимал вопрос: начинаю ли я разлюблять его или любовь осталась все той же, только как бы вошла в берега, сделалась привычкой? Она меня уже не мучила и доставляла удовольствие. В седьмом часу пришла сестра Женя, и я с привычным уже волнующим ожиданием прошла за ней в комнату, спросив: «Ляля на каток уехала?» – «Да». – «Сегодня, кажется, холодно?» – «Нет, наоборот, очень хорошо!» Мы еще перекинулись несколькими такими безразличными для меня фразами. «Пойдем погуляем!» – сказала Женя. «Значит, никого не будет», – подумала я, но пойти гулять согласилась. Медленно и неохотно одевалась, веселость, живость и оживление моментально пропали, в душе стало как-то тяжело и пусто, а надежда сменилась разочарованием. Мне стало как-то все безразлично, но, пожалуй, в самом удаленном уголке души моей я надеялась на завтрашний день.
Когда мы зашли к бабушке отнести ключи, сестра сказала мне: «А часов в восемь Нина и Женя должны подойти». – «Как бы не опоздать», – заметила я, а сама радостно улыбалась. «Ну и прекрасно, теперь весь вечер будет счастливым», – думалось мне. Однако гулять мы не пошли, и я с радостным ожиданием села за книгу, раздумывая: «Почему он придет? Ведь Дуси не будет. Может, Нина? Нет. Может, Женя? Нет». Мне почему-то никак не верилось, что он неравнодушен к Жене, хотя это очень могло показаться. «Ольга? Но ведь она на катке, и он знал это».
И какой-то злой и нехороший чертенок радостно закопошился и заиграл во мне: «Значит… значит…» Это даже не было определенной мыслью, но я прекрасно поняла, что говорил чертенок. И стало как-то особенно легко и радостно.
Я не верила, что нравлюсь ему, но даже сознание, что ему не нравится никто другой, доставляло мне удовольствие. Женя играла на рояле, и я, взглядывая на ее спину, блаженно улыбалась. Потом затявкала Бетька, незлобно и лениво, и я вышла в коридор. Внизу слышны были голоса. Нина? Ну конечно, она и Женя. И я сдерживала себя, чтоб не броситься отпирать, не дождавшись звонка.
Они вошли, впереди Нина, потом Женя; как всегда равнодушно взглянув на меня, он сказал: «Добрый вечер». Но это даже не разозлило, не охладило и не омрачило моего настроения. Раздеваясь, он спросил неизменное, к которому я уже привыкла: «Ну, Нина, как живем?» Я ответила бойко: «Все по-старому!» – «Хорошо? А программу переписала?» – «Не бралась еще с тех пор», – проговорила я и с неприятным и удивленным чувством заметила, что слишком радостно и захлебывающе смеялась. А оставшись одна, внимательно присмотрелась к своим рукам и с добродушной досадой подумала: «Они могли бы дрожать сильнее, да и сердце громче биться. Неужели проходит?» Глупая! А что ты думала двумя часами позже?
Сестра и Женя принялись разучивать вальс в четыре руки, а мне было неудобно к ним войти. Иногда Женя смеялся, и так радостно-болезненно отзывался во мне этот смех. «Женя, сыграй вальс», – услыхала я голос Нины и вошла. Играл Женя! Я встала у стены и со смешанным чувством смеха и невольной досады на себя посматривала на него, который почему-то вчера был особенно симпатичным – так хорошо сидел на нем пиджак, так весело блестели глаза его, когда он пришел. Нина танцевать отказалась, стала печальной и хмурой, сев на постель.