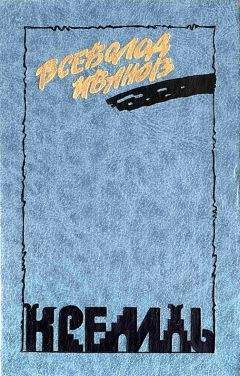Всеволод Иванов - Долг
Отодвинул стакан.
— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.
Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точеными из угля, усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.
Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:
— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога… а теперь в путиловском! В нас много стыда… капитан… на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю, — бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный будто мужик… Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)… и все-таки он… меня… из-под больной своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил… Надо понимать людей, капитан.
Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая. Словно глаза сползают с лица…
Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.
— Пустите меня, — прошептал он. — Устал.
Чугреев сморщился.
— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии… вы не слышали?..
— Красные сказывали — Щукин.
— Да, «товарищ» Щукин… Но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?
Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.
— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.
Фадейцев сосчитал у себя, — восемь.
— Бог даст, не изловят, — сказал он хрипло.
— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь — амба!
— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо Фадейцев. — Кого амба?..
Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.
— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку…
Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:
— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол… огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси… Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?
Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.
— Хватит? — спросил он хвастливо.
Фадейцев больно надавил локтем в стол.
«Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают…» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя революционных мотивировок, — припомнил он адъютанта, — держись…»
Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.
— Греха на душу… пусти, ваше благородье… ваше сиятельство… Бакушев я, хоть все село опроси.
— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш… Ась, два!.. Стой!..
Он взял его под руку и подвел к столу.
— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста… И руки не прячьте… Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите…
— Ваше сиятельство, ей-богу!..
Нога Чугреева тяжело упала на пол.
— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!
В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.
Но Фадейцев молчал.
— Можете ли вы мне говорить прямо?
«Во имя революции — нет», — так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.
Фадейцев же молчал.
Недоумевая, Чугреев отошел от стола.
— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!
Лицо у него было жесткое и суровое.
«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.
Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.
Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля — день… День прошел полночь.
Князь опять упрекает:
— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.
Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.
А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.
Усталый, но на что-то надеясь, он говорит:
— Идите… Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу…
Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.
На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.
Не пьяный ли плевок вся ночь? Уже полночь.
Широкие улицы вздыхают травой — она росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко, с привизгами, по-бабьему мычит теленок.
Небо легкое и белое.
Земля легкая и розовая.
Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отворяет ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой пшеничной мукой).
— Молока не хошь? — спрашивает он тихо и ласково. — Я тут страдал…
Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза. Он хочет понять, вспомнить. Подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют…
IVГики. Рассвет.
Пулемет. Солнце на пулемете.
Пустые улицы заполнились топотом.
Фадейцев спрыгнул с полатей.
— Наши!.. Ясно, что наши.
— Ну!.. — протянул недоверчиво старик. — Чугрееву подмога.
А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели «Интернационал» и писали радостную резолюцию.