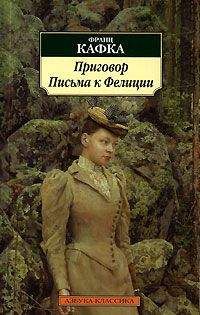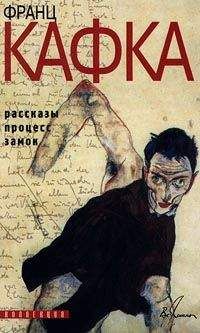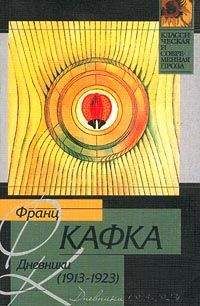Франц Кафка - Письма Хедвиге Вайлер
Адье.
Твой Франц
Прага, ~ ноябрь 1907
Часть третья
Милая девочка, прости меня за то, что я не ответил сразу, но я еще не умею правильно воспользоваться несколькими часами, вплоть до полуночи, каковая сейчас. Не думай что прекрасная погода оттеснила меня от Тебя, меня отодвинуло перо, любимая. А я отвечаю на все твои вопросы.
Вскоре я перейду на новое место и далеко ли пойду, не знаю, в течение года — вряд ли, самым замечательным было бы вообще уволиться из учреждения, это не совсем невозможно.
Я не так жалуюсь на работу, как на затянувший меня период лености, а именно, время в бюро не позволяет, даже в последние полчаса гнет восьми часов ощущается так же, как и в первые. Часто это — словно при поездке по железной дороге сквозь день и ночь, пока совсем не сробеют, не думая уже ни о работе машиниста, ни о равнинах, ни о гористых местностях и лишь приписывая всему результаты воздействия часов, которые сжимают все время перед собой в ладони.
Я изучаю итальянский язык, так как сначала, по-видимому, поеду в Триест. В последние дни — для того, кто к этому столь чувствителен — я выгляжу весьма трогательно. Насколько же это естественно, если себе я кажусь деклассированным. Люди, вплоть до 25-летнего возраста время от времени не бившие баклуши, весьма достойны сожаления, потому что, как я в этом убедился, в могилу с собой забирают не заработанные деньги, а лишь проведенное в праздности время.
Около восьми часов я — в бюро, ухожу примерно в половине седьмого
Необоснованно радующиеся люди? Все люди, имеющие сходную профессию, таковы. Трамплином для их веселья являются последние минуты работы. К сожалению, я как раз общаюсь не с такого рода людьми.
«Эротика» вскоре выходит из типографии под названием «Путь влюбленного», но без моего титульного листа, оказалось, что он не воспроизводим.
То, что Ты написала о молодом писателе, интересно, только Ты преувеличила сходство. Я лишь случайно и не постоянно пытаюсь начать работать, а многим людям во многих странах всех частей света это удается; как раз эти следят за своими ногтями, многие их подкрашивают. Он чудесно говорит по-французски, так что уже в этом значительная разница между нами, а в том, что он может с Тобой общаться, разница — чертовская.
Стихотворение я прочитал, и так как Ты представила мне право судить о нем, я могу сказать, что в нем много гордости, но такой, которая, как я полагаю, к сожалению, отправляется прогуливаться в полном одиночестве. В целом оно показалось мне детским и потому симпатичным, достойным восхищения современников. Voi la (вот — франц.). Но из чрезмерной щепетильности с целью точного уравновешивания весов, которые Ты держишь в своих любящих руках, я посылаю Тебе плохонькую, по-видимому, годичной давности вещицу [4], которую он пусть рассудит на тех же условиях. (Ты не назвала имени и также ничего еще, не правда ли?). Я буду очень рад, если он меня хорошенько высмеет. Потом Ты отошли листок мне обратно, как и я это делаю.
Теперь я на все ответил и более того, теперь моя очередь. То, что Ты мне о себе написала, так же туманно, как это тебе и подобает. Я виновен в том, что Тебя мучает, или Ты мучаешься, и Тебе просто на помогли? «Очень симпатичный мне человек», «оба должны бы пойти на уступки». В этом огромном, мне совершенно неизвестном городе Вене лишь Ты становишься мне понятной, и теперь, оказывается, я ничем не могу Тебе помочь. Не имею ли я право на этом закончить письмо, пока оно не одолело грустью?
Твой Франц
12 часов, Прага, ноябрь 1907
Итак, устало, но послушно и благодарно: Я благодарю Тебя. Не правда ли, все это хорошо. Такое часто случается на переходе от осени к зиме. И, так как сейчас зима, то мы сидим — так оно и есть — по комнатам, разве только стены, у которых каждый из нас сидит, спокойны, удаленные друг от друга, однако, это удивительно и быть этого не должно.
Что за истории, которые Ты от многих людей узнала и про прогулки и планы? Я не знаю историй, людей я не вижу, ежедневно проделываю в спешке прогулки по четырем улицам, углы их я уже закруглил и все в одном месте, для планов же я слишком переутомлен. Быть может, с застывшим кончиком пальца, поднятого вверх, — я не ношу перчаток, — я постепенно стану деревом, тогда Ты заимеешь в Праге славно сочинителя писем и в моей руке — прекрасное приобретение. И потому, что я живу столь зверски, я должен вдвое просить у Тебя прощения за то, что не оставляю Тебя в покое.
Бога ради, почему я не отослал письмо? Обозлишься или только обеспокоишься. Прости меня. Хотя бы из-за моей лени или как Ты пожелаешь это назвать, успокой по-дружески. Но это не только лень, а и страх, общий страх перед писаниной, этим ужасающим занятием, которое, должно быть, нуждается во всех моих несчастьях. Но прежде всего: нужно только привести в порядок волнующие обстоятельства, к которым наши отношения, как я полагаю, касательства не имеют. И несмотря на все, я написал бы Тебе давным-давно, вместо того чтобы носить с собой сложенное до небольших размеров письмо, но теперь я неожиданно среди множества людей, офицеров, берлинцев, французов, художников, исполнителей куплетов, и они весьма забавно отнимают у меня по несколько вечерних часов, вчера вечером, например, я общался с капельмейстером одного оркестра, для которого у меня не было ни крейцера чаевых, вместо этого подарил книгу. И тому подобное. При этом забывают, что время идет и дни пропадают, так что поистине все это ничего не стоит. Мой поклон и моя благодарность.
Твой Франц
Прага, приблизительно начало 1908
Милая, уже в бюро на фоне музыки пишущих машинок, в спешке и с грандиозными ошибками. Мне бы уже давным-давно следовало поблагодарить Тебя за Твое письмо, и опять я теперь слишком запаздываю. Но я думаю, что Ты меня раз и навсегда простила за подобные вещи, потому что когда у меня дела хороши, уж тогда я пишу — прошло уже много времени, в течение которого я в этом не нуждался — впрочем, медленно. И так как Ты по-доброму обошлась со мной в своем письме, Ты все же упустила сделать мне комплимент по поводу моей энергии, с которой я столь охотно пожелал засунуть свою голову в почву какой-нибудь улицы и не вытаскивать её. Прежде, хотя бы в паузах, я все-таки жил вполне легально, потому что в обычное время не слишком трудно сконструировать для себя носилки, которые чувствуют себя несомыми над улицей добрыми духами. Затем поломка (тут я хотел продолжать писать, но было уже восемь с четвертью и я пошел домой), а потом деревяшка переламывается, напрочь при весьма скверной погоде, поэтому останавливается на шоссе, уже невозможно восстановиться и еще далеко до таинственного города, к которому устремлялись. Позволь мне вот такую историю натянуть над собой, как больной натягивает на себя шали и одеяла.