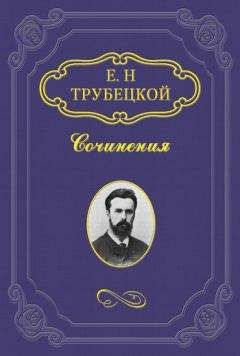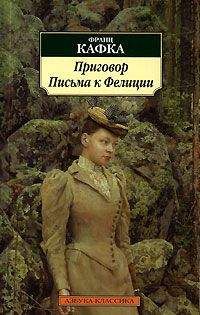Вальтер Беньямин - Франц Кафка
Впрочем, этот ипподром – он же одновременно и театр, что выглядит некоторой загадкой. Загадочное место и абсолютно незагадочный, прозрачный, кристально наивный образ Карла Росмана сведены вместе. Карл Росман прозрачен, наивен и почти бесхарактерен в том смысле, в каком Франц Розенцвейг в своей «Звезде спасения» утверждает, что в Китае человек внутренне «почти бесхарактерен; образ мудреца, каким его в классическом виде… воплощает Конфуций, стирает в себе практически все индивидуальные особенности характера; это воистину бесхарактерный, то бишь заурядный, средний человек… Отличает же китайца нечто совсем иное: не характер, а совершенно натуральная чистота чувства» [37] . Впрочем, как бы там это ни формулировать мыслительно, – возможно, эта чистота чувства есть лишь особо тонкий индикатор поведенческой жестикуляции – в любом случае Великий театр Оклахомы отсылает нас к китайскому театру, а китайский театр – это театр жеста. Одна из наиболее значительных функций этого театра – претворение происходящего в жесте. Можно пойти даже еще дальше и сказать, что целый ряд небольших заметок и историй Кафки раскрываются во всей полноте своего смысла лишь тогда, когда их переносишь на сцену этого удивительного оклахомского театра. Ибо лишь тогда становится понятно, что все творчество Кафки представляет собой некий свод жестов, символический смысл которых во всей их определенности, однако, отнюдь не ясен автору изначально, напротив, автор к установлению такового смысла еще только стремится путем опробования жестов в разных ситуациях и контекстах. Театр для такого опробования – самое подходящее место. В неопубликованном комментарии к «Братоубийству» Венер Крат весьма проницательно разглядел в событийности этой небольшой новеллы событийность именно сценическую. «Теперь пьеса может начинаться, и начало ее действительно знаменуется ударом колокола. Производится этот удар вполне естественным образом, когда Безе выходит из дома, где расположена его контора. Однако, как ясно сказано у Кафки, дверной этот колоколец звенит слишком громко, „накрывая своим звоном весь город, простираясь до небес“» [38] . Точно так же, как этот колокол слишком громок для обычного дверного колокольчика, – так же и жесты кафковских персонажей слишком чрезмерны для обычного нашего мира: они пробивают в нем прорехи, сквозь которые видны совсем иные пространства. Чем больше росло мастерство Кафки, тем чаще он вообще переставал приспосабливать эту невероятную жестикуляцию к обыденности житейских ситуаций и ее растолковывать. «Странная у него манера, – еще разъясняется в „Превращении“, – садиться на конторку и с ее высоты разговаривать со служащим, который вдобавок вынужден подходить вплотную к конторке из-за того, что начальник туг на ухо» [39] . Такие обоснования уже в «Процессе» становятся совершенно излишними. «У первого ряда скамей» К. в предпоследней главе «остановился, но священнику это расстояние показалось слишком большим, он протянул руку и резко ткнул указательным пальцем вниз, прямо перед собой, у подножия кафедры. К. подошел так близко, что ему пришлось откинуть голову, чтобы видеть священника» [40] .
Когда Макс Брод говорит: «Непроницаем был мир всех важных для него вещей», то хочется добавить: самым непроницаемым для Кафки всегда оставался жест. Каждый жест для него – это действо, можно даже сказать – драма, драма сама по себе. Сцена, на которой эта драма разыгрывается, – всемирный театр, программку для которого раскрывает само небо. С другой стороны небо, – это только его задник; так что если уж изучать этот театр по его собственным законам, то нужно рисованный задник сцены забрать в раму и повесить в картинной галерее. Над каждым жестом Кафка, в точности как Эль Греко, разверзает небо; и так же, как у Эль Греко, который был крестным отцом экспрессионистов, важнейшим средоточием происходящего остается именно жест, движение, повадка. Люди, заслышавшие стук в ворота [41] , ходят, съежившись от страха. Именно так изобразит испуг китайский актер, но при этом ему и в голову не придет вздрогнуть. В другом месте К. сам устраивает театр. «Медленно и осторожно он завел глаза кверху… не глядя, взял одну из бумаг со стола, положил ее на ладонь и, постепенно поднимаясь с кресла, стал протягивать ее обоим собеседникам. Он ни о чем в это время не думал, а действовал так, как, по его представлению, ему придется действовать, когда он наконец подготовит тот важный документ, который его окончательно оправдает» [42] . Непостижимейшая загадочность в сочетании с поразительной и безыскусной простотой превращает этот жест по сути в животное движение. Истории, в которых у Кафки действуют животные, иной раз довольно долго читаешь, вообще не понимая, что речь в них идет вовсе не о людях. И лишь наткнувшись на наименование твари, – обезьяны, собаки, крота, – испуганно вскидываешь взгляд и только тут понимаешь, насколько далеко унесло тебя от человеческого континента. Но у Кафки всегда так; у человеческого жеста он отнимает унаследованные смысловые подпорки, таким образом обретая в нем предмет для размышлений, которым нет конца.
Но им странным образом нет конца и тогда, когда они отталкиваются от зашифрованных историй Кафки. Достаточно вспомнить его параболу «У врат закона» [43] . Читатель, натолкнувшийся на нее в сборнике «Сельский врач», возможно, еще помнит некое весьма туманное место в ее сердцевине. Однако пробовал ли он выстраивать до конца всю цепочку нескончаемых соображений, вытекающих из этой притчи как раз там, где Кафка дает нам ее толкование? Это делает священник в «Процессе», и место это столь замечательно, что впору подумать, будто весь роман не что иное, как развернутая парабола [44] . Но слово «развернутая» имеет по меньшей мере два смысла. Развертывается бутон, превращаясь в цветок, но развертывается, как знает всякий ребенок, и сложенный из бумаги детский кораблик, превращаясь снова в обыкновенный лист бумаги. Вообще-то именно этот второй вид «развертывания» больше всего и подобает параболе, когда удовольствие от чтения сводится к «разглаживанию» смысла, чтобы он в конце лежал перед нами, «как на ладони». Но параболы Кафки развертываются в первом смысле, то есть как бутон в цветок. Продукт их развертывания ближе к поэзии. Неважно, что творения его не вполне вписываются в традиционные для Западной Европы повествовательные формы и относятся к канону, к учению примерно так же, как агада к галахе [45] . Они не совсем притчи, но в то же время не хотят, чтобы их принимали за чистую монету; скорее они созданы для того, чтобы их цитировали, рассказывали для толкования. Но есть ли у нас то учение, вокруг и во имя которого созданы эти притчи, которое толкуют жесты К. и повадки кафковских зверей? Его у нас нет, и мы можем разве что предполагать, что те или иные места у Кафки с ним связаны, имеют его в виду. Сам Кафка, возможно, сказал бы: сохранились от учения в качестве реликта; но мы-то с тем же успехом могли бы сказать и иначе: подготавливали учение, будучи его предтечей. При этом в любом случае и первым делом будет иметься в виду вопрос организации жизни и труда в человеческом сообществе. Вопрос этот занимал Кафку тем настоятельней, чем непостижимей казался ответ на него. Если Наполеон в своей знаменитой эрфуртской беседе с Гёте на место фатума поставил политику [46] , то Кафка, перефразируя эту мысль, мог бы определить судьбу как организацию. Она-то и стоит у него перед глазами не только в нескончаемых чиновничьих иерархиях «Процесса» и «Замка», но еще более осязаемо она запечатлена в мучительно трудоемких и необозримых по размаху строительных начинаниях, почтительная модель которых явлена нам в притче «Как строилась Китайская стена».