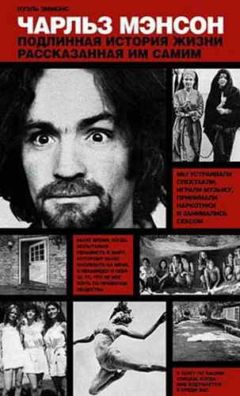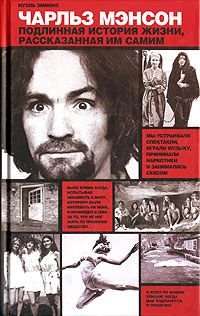Нуэль Эммонс - Чарльз Мэнсон: подлинная история жизни, рассказанная им самим
Пытаться изменить его отношение было в тот момент бессмысленной затеей, но все же я почувствовал необходимость объяснить ему, почему у меня не находилось для него времени, когда мы вместе сидели. «Ты был на восемь лет младше меня; то, через что ты только проходил тогда, для меня уже осталось в прошлом. Ты и те парни, к которым ты пристроился в тюрьме, играли в игры и пытались произвести на всех впечатление. Я же хотел лишь одного — отбыть свой срок и выбраться оттуда. Дело было вовсе не том, нравился ты мне или нет». Похоже, мои слова успокоили Мэнсона. Угрожающая злость, звучавшая в его голосе, исчезла, и он начал расспрашивать меня о бывших общих знакомых. Оказалось, что он знал об их жизни куда больше, чем я. Заключенные всегда в курсе, что происходит с теми, кто выходит за тюремные ворота, и они подавно будут знать, попался парень снова или продолжает обделывать свои темные делишки на воле. Вместе с тем если человек исправляется, то новости о нем, судя по всему, перестают поступать и для других заключенных он словно умирает.
Спустя примерно полчаса охранник сообщил, что у нас осталось пять минут. В эти последние минуты Мэнсон затронул тему, которой я решил не касаться на первом свидании с ним. «Ха, так ты теперь у нас писатель? Знаешь, вы, ублюдки, меня просто достали, и я не верю ни одному из вас, уродов, чтобы говорить вам правду. Что на это скажешь?» Я не понимал, для чего Мэнсон сказал мне это: хотел ли он дать мне от ворот поворот или просто проверить мою реакцию. «Все так, Чарли, — ответил я, — я тоже не доверяю многим писателям. Так что не думай, что я приехал сюда, чтобы потом что-нибудь написать. Я здесь потому, что когда-то мы с тобой провели вместе какое-то время, и если мои один-два прихода хоть как-то разнообразят твою жизнь, я приеду еще. А если ты не захочешь, то нет». Мэнсон не дал прямого ответа. «Слушай, мне бы немного почтовых марок и блокнотов, можешь устроить?» — спросил он. «Конечно, — сказал я. — И если тебе надо денег на книги, тоже обращайся».
Наше время истекло. Когда мы прощались, Мэнсон стоял ко мне уже ближе, чем в начале встречи. Мы пожали друг другу руки с легкой теплотой. О преступлениях мы разговор не заводили. Хотя Мэнсон ни чего не сказал на этот счет, я почувствовал, что он хотел видеть меня снова. Со временем, подумал я, мы могли бы научиться доверять друг другу.
Я выслал Мэнсону марки и бумагу, которые он просил, и еще денег на продукты. Мы обменялись, может, парой писем, и я стал ездить к нему почти каждую неделю. Следующие два свидания были похожи на первую нашу встречу. Мэнсон почти не говорил о внешнем мире и о прошлом, зато охотно рассуждал о том, как изменились тюрьмы. Пару предложений он говорил связно, практически логично, но потом вдруг перескакивал на другое, не закончив первой мысли.
Я уже виделся с Мэнсоном раз шесть или семь, но все еще не знал, что ему колют лекарства, пока однажды он не сказал: «Может быть, ты своеобразная терапия для меня, ведь они стали меньше меня колоть». После этого наше общение стало более конструктивным. Мы начали говорить об убийствах. Он уклончиво отвечал на прямые вопросы о своем участии в них, зато свободно говорил о «своих девочках», вспоминал свою жизнь на ранчо Спан, пустыню Мохаве и свои багги для езды по песку. Он сам рассказал кое-что о Линетт (Пискле) Фромм и о покушении на президента Форда. Как-то раз он неожиданно спросил у меня: «Слыхал о том, что Ред была в Элдерсоне? (Ред* — это было «цветовое» имя, придуманное Мэнсоном для Фромм; несколько самых важных девушек в «семье» имели разный «цвет».) Я должен нести еще и это бремя. Я не говорил ей стрелять в Форда. Это была ее идея, но, как и все остальное, легло на Чарли. Эй, видел «Ангелов Чарли» по телевизору? Это же прямо про меня и моих девочек. Между прочим, как думаешь, это я послал тех ребят в дом Мелчера?» Так он первый раз спросил меня напрямую, считал я его виновным или нет.
«Ты же все-таки здесь, Чарли, — ответил я, — поэтому я вынужден думать что-то вроде того». Он взорвался, и мне впервые довелось встретить этот острый, пронизывающий взгляд, который так часто фигурировал в газетах и на обложках журналов во время судебных заседаний в 1970 году. Мэнсон подошел ко мне, но не для того, чтобы ударить, а чтобы заорать на меня. Его лицо было всего лишь в нескольких дюймах от моего. «Ты, мразь, ты мне не друг, ты просто еще одна жертва той чепухи, что Сэди (Сьюзан Аткинс) и Бульози написали в «Heiter Skelter»! Да пошел ты, катись отсюда». Охранник достал ключи и уже собирался открыть дверь, чтобы помешать драке, которая, как он думал, была неминуема, но я сказал ему, что все нормально, и у нас просто небольшая размолвка. Тюремщик колебался, а Чарли отошел от меня и уставился на нас обоих. Он весь дрожал от гнева. Потом я заметил, что он расслабился. «Да, все в порядке, все под контролем», — сказал он охраннику. Вспышка ярости прошла так же быстро, как и началась. Мэнсон продолжил разговор тихим, спокойным голосом. «Видишь ли, я уже достаточно пожил на этом свете, чтобы понять: если ты совершишь преступление, тебе придется за это расплачиваться. Но я не виновен в том, за что эти козлы меня осудили. Я не должен быть здесь! Во всяком случае, не так, как они меня держат, не под иглой. Они могли бы обвинить меня в заговоре, в соучастии до или после преступления; наказание было бы тем же, но я безропотно отбывал бы его». Потом, опасаясь, что я сочту его слова проявлением слабости, Мэнсон быстро добавил: «Да я не жалуюсь, пойми, просто эти сволочи поступают со мной несправедливо». Минуту или две стояла тишина, он сверлил меня взглядом, пытаясь угадать, поверил ли я ему. «Если так оно и есть на самом деле, Чарли, давай я напишу книгу с твоих слов о том, как это было», — нарушил я молчание. Он улыбнулся и сказал: «Хитрый ты сукин сын. Через два месяца наконец раскололся. Но послушай, приятель, я не знаю, могу ли доверять тебе». — «А что значит «доверять», Чарли? — спросил я. — Все что можно плохого, о тебе уже сказали. Но твоя жизнь отражает все пороки нашего общества, и, если ее правильно преподнести, она могла бы послужить своеобразным уроком для общества. Ты же сам всегда говоришь, что родители присылали своих детей к тебе. Твоя жизнь, такая, какой она была на самом деле, без всей той ерунды из «Helter Skelter», которую проглотили во время суда, могла бы объяснить, почему те самые ребята пришли к тебе, и заставить родителей внимательней относиться к себе и к своим отпрыскам. На примере твоей жизни можно много чему научиться. К тому же у тебя ведь есть собственное мнение насчет причин, которые привели к убийствам. Так позволь мне записать его».
«Знаешь что, Эммонс, мне наплевать на тех щенков! Родители — вот кто должен за ними присматривать. Из-за этих самых детишек и их узколобых мамаш и папаш я и загремел сюда. Пусть заботятся о себе сами. Нет, к черту все! Я не собираюсь становиться частью книги, все равно какой! Особенно книги, которая выставит меня кем-нибудь вроде благодетеля человечества. Пошли они к черту, они сами создали образ, так пусть и живут с ним, пусть все эти дети пишут мне письма с просьбами о встрече и о вступлении в мою «семью». Черт, да не было никакой семьи! Какой-то журналист прилепил это слово к нам, когда они доставали нас на ранчо. Кроме того, не найдется ни одного человека, который захочет читать что-то, что могло бы научить его кое-чему. Их интересует только кровь и секс — вот что у них на уме, когда они тратят свои деньги».