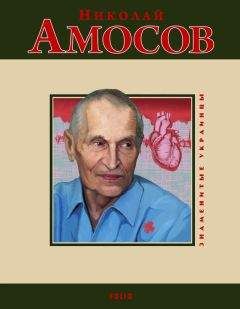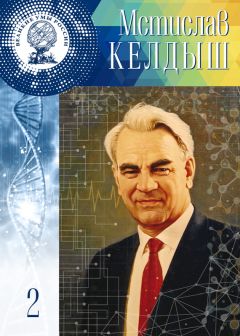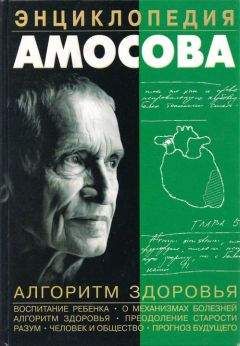Мария Виролайнен - Молодой Погодин
Характеры, которые рисует Погодин, тяготеют к типичности и зачастую предвосхищают характеры классических героев русской литературы. Приведем примеры из той же «Невесты на ярмарке». Дядька Бубнового Дементий, преданный, заботливый и утомляющий барина нравоучениями, как будто пробный вариант Савельича из «Капитанской дочки» Пушкина. Некоторые черты Анны Михайловны отчасти родственны бесстыдному словоблудию Иудушки Головлева. Характер Прасковьи Филатьевны повторится в характере Анны Михайловны Друбецкой из «Войны и мира» (только последняя занимает более высокое социальное положение). Сюжет, построенный на обмане, ситуация сватовства Бубнового, который «пылая страстью», не может сообразить, которой из двух девиц он делает предложение, сцена разоблачения предвосхищают фантасмагорию «Ревизора», а рассказ Дементия о том, как живут несуществующие мужики Бубнового, наводит на мысль о «Мертвых душах».
Чрезвычайно важна для Погодина установка на подлинность тех событий, о которых он рассказывает. Почти в каждой повести так или иначе подчеркнуто, что сюжет не выдуман, что он основан на настоящих письмах или дневниках, или что автор сам был его очевидцем, или что он услышан от кого-либо из знакомых. Эти уверения далеко не всегда оказываются фикцией. Погодин то берет готовую сюжетную схему («Преступница», «Петрусь»), то использует автобиографические моменты («Русая коса», «Сокольницкий сад», «Адель»), то пересказывает слышанные им анекдоты («Возмездие», эпизод с гаданием в «Черной немочи»). Жанр анекдота, «истории из жизни», имеет особое значение для него. Некоторые из его повестей в журнальной публикации имели подзаголовок «анекдот», т. е. стояли на грани художественной и документальной прозы. Эта установка на подлинность, с одной стороны, продолжает традицию «справедливой» и «полусправедливой» повести XVIII — начала XIX в.[7], с другой стороны, готовит совершенно новый способ взаимодействия эстетической формы и действительности — способ, который некоторое время спустя будет свойствен русскому реализму. Журнальной публикации «Возмездия» Погодин предпосылает предисловие, в котором приносит благодарность за сообщение ему данного происшествия и как редактор «Московского вестника» предлагает своим читателям доставлять ему известия о достопримечательных событиях, происходящих в России, обещая помещать их рассказы в своем журнале. Это намерение Погодина перекликается с позднейшим призывом Гоголя к своим соотечественникам писать с ним совместно новую книгу о России, книгу, которая осуществит ту задачу, которую он поставил перед собой, принимаясь за «Мертвые души».
С жанром анекдота теснее всего связан цикл коротких рассказов, озаглавленный Погодиным «Психологические явления». Название цикла очень точное. Погодин рассказывает именно о явлениях, проявлениях человеческой психологии, не углубляясь в ее внутреннюю природу. Цель рассказов — озадачить читателя, продемонстрировать ему странность, необъяснимость иных движений человеческой души. Объяснения Погодин, по существу, нигде не дает. В лучшем случае он может выдвинуть расхожую мораль или рассудочное истолкование, но может обойтись и без этого. Отсутствие объяснения его не смущает, — достаточно преподнесения самого факта. Факт же, как правило, парадоксален: на лице преступника не видно следов порока; получивший неожиданную награду не обрадовался, а — удавился; честнейший человек — убил из-за денег.
К «Психологическим явлениям» тяготеют некоторые мотивы других повестей, где также обнаружена парадоксальность души человеческой. В «Преступнице» Погодин настаивает на набожности и благочестии своей героини, но в ней есть способность и к преступлению, и к угарной пляске и ласкам в кабаке, ко лжи, клевете, душевному отупению. В «Невесте на ярмарке» изначально подчеркнута психологическая несообразность: героиня, наделенная тонкой душевной организацией, влюбилась в пустейшего и скверного человека.
Там, где Погодин претендует на то, чтобы быть психологом (это происходит, например, в «Как аукнется, так и откликнется» и «Сокольницком саде»), в одеждах психологии выступает сугубый рационализм. Он не дает нового объема, создает лишь видимость углубления. Все рассчитано, как наперед известная шахматная комбинация, включая даже якобы неожиданные сюжетные ходы. Подлинной стихией Погодина оказывается не психологический анализ, а констатация психологического факта. Выведение морали вполне органично этому, хотя по поводу морали Погодин и иронизирует.
Любопытно, что проявление необычайных страстей Погодин, как правило, обнаруживает в простом народе или в среднем сословии — в той сфере, которая целиком укладывается в быт, не осложненный ни культурой, ни философией. Именно в незыблемом бытовом укладе обнаруживаются необъяснимые психологические явления. Казалось бы, они должны подрывать бытовые основы, нарушать устойчивый порядок жизни. Но для Погодина эти явления оказываются как бы в порядке вещей, ибо необъяснимое для него — не тайна, в которой скрываются силы, способные потрясти миропорядок, но загадка, задачка. Ее можно разрешить, можно и не разрешить. Неразрешенная, она не будет смущать и тревожить, а лишь даст пищу для размышлений. Непостижимое тоже воспринимается им как бытовая данность.
В тех же случаях, когда Погодин дает разъяснения, он прибегает к народной морали, демонстрирующей, как один дурной поступок влечет за собой другие, как преступление ведет к наказанию. В его повестях масса пословиц. Пословица — обиходная мудрость — очень емкая форма для Погодина и очень органичная для него.
Погодин любил выражать свою мысль в афоризмах. Будучи по призванию историком-эмпириком, он большое значение придавал своим «Историческим афоризмам» (он публиковал их в «Московском вестнике» и позже издал отдельной книгой), которые претендовали на афористическое изложение взглядов на философию истории. В повестях Погодина тоже рассыпано множество афоризмов, и тут они обнаруживают свое истинное родство с русской пословицей (а вовсе не с одной из эстетических форм немецкого романтизма, как это мыслилось Погодиным).
До сих пор мы говорили о Погодине как о писателе, стоящем на прочных основаниях и находящем такие основания во всех явлениях, которых он касается, как о человеке трезвого и рационального склада. Подтверждение тому можно найти во всех повестях, собранных в этой книге, — во всех, кроме одной. И эта единственная повесть, не укладывающаяся в предложенную здесь схему, заставляет включить то, о чем только что говорилось, в совершенно новый контекст. Речь идет об «Адели».