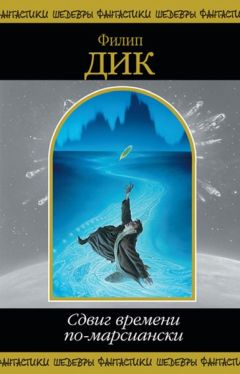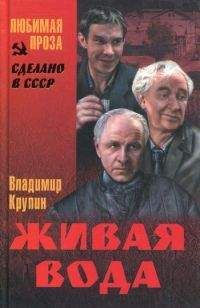Владимир Дьяков - Ярослав Домбровский
Домбровскому пришлось убедиться в этом очень скоро и, если можно так выразиться, на самом высоком уровне. Через несколько дней после его приезда в Брест корпус посетил проездом сам царь. В длинной шеренге воспитанников неранжированной роты он обратил внимание на смышленое лицо одного из стоявших на левом фланге мальчиков, которому в спешке забыли остричь светлые вьющиеся волосы. Царь остановился, поднял его на руки и спросил о фамилии и происхождении. Услышанные в ответ слова: «Домбровский, поляк», вызвали у Николая I вспышку гнева; он резко опустил маленького кадета на пол, тот ушибся и потерял сознание. Случай этот описан в воспоминаниях жены Домбровского. По ее словам, происшедшее запечатлелось в памяти Ярослава на всю жизнь. «…Было это, — пишет она, — первым зерном ненависти ко всякому насилию; зерно начало развиваться значительно позднее».
За первым «зерном» последовали десятки других. Изнуряющая зубрежка, бездушная муштра и разнообразнейшие, в том числе телесные, наказания постепенно делали свое дело. Многие из воспитанников, сломленные духовно, превращались в недалеких, но послушных, ни над чем не задумывающихся слуг царизма. Зато других, говоря словами Огарева, «узкое, тупое, нечеловеческое воспитание домучило до понимания свободы». Так было с Домбровским. Он не получил отвращения к ученью и военному делу и не потерял вкуса к дисциплине как таковой, но возненавидел николаевские порядки в армии и очень хорошо почувствовал цену свободе.
Приказы и журналы воспитательного комитета Брестского кадетского корпуса за 40-е и 50-е годы прошлого века пестрят фамилиями воспитанников, подвергшихся наказаниям за детские шалости, за леность в занятиях, за неопрятность, непослушание, курение, драки, за грубость по отношению к товарищам, учителям, воспитателям, за многие другие проступки. Наказания тщательно учитывались, о них ежемесячно доносили в Петербург, и один из великих князей, ведавший военно-учебными заведениями, нередко сам интересовался деталями проступка, давал свои рекомендации относительно наказания. Так, в 1850 году сверстники Домбровского воспитанники Гаврилов и Повало-Швейковский нарисовали на классной доске карикатуру, изображавшую нелюбимого кадетами преподавателя немецкого языка Ланкенау, за что первый получил двое суток ареста «в уединенной комнате» (то есть в самом обычном карцере), а второй — 20 ударов розгами. Вскоре после сообщения об этом из Петербурга поступил запрос о том, что именно нарисовали наказанные. Директор корпуса генерал Гедьмерсен собственноручно подготовил секретное донесение: рисунок изображал преподавателя «довольно похоже», но «в карикатурно-смешном виде», «с большим носом, с огромной бородавкой на левом ухе (у господина Ланкенау действительно довольно большой нос и небольшая бородавка), с кривыми ногами и в пальто с поднятым до ушей воротником». Взвесив полученные сведения, петербургское начальство на этот раз признало наказание правильным. Но бывали случаи, когда великий князь или начальник его штаба высказывали свое несогласие, причем чаще всего наказание признавалось ими слишком мягким.
Провинившихся воспитанников ставили в угол или к стене, оставляли вовсе без обеда или лишали только сладкого, не разрешали прогулок, запрещали увольнения в отпуск для встреч с родными и знакомыми, снижали балл по поведению, записывали на черную доску и так далее. Но самым впечатляющим воспитательным средством признавались розги.
О. Еленский (он был на два года моложе Домбровского и прибыл в корпус в 1850 году) в первый же день своей кадетской жизни наблюдал, как в присутствии осматривавших корпус великих князей Михаила Николаевича и Николая Николаевича наказывали сбежавшего из Бреста воспитанника. Утром хмурого пасмурного дня корпус поротно вывели на плац, в центре которого стояла скамейка, а возле нее лежал ворох розог. Наказываемого привели в арестантской куртке, прочитали конфирмацию, потом под бой барабанов долго секли у всех на виду. Наутро Еленский, мать которого еще не уехала, долго плакал и упрашивал ее не оставлять его в корпусе.
В другом месте своих воспоминаний Еленский описал постоянно преследовавшее воспитанников гнетущее чувство оттого, что их в любое время могут за что-либо наказать. «Сколько даровитых и симпатичных юношей, — заявляет он, — пропало на моих глазах под гнетом таких одуряющих отношений». По словам Еленского, был в корпусе даже такой случай, когда незаслуженное телесное наказание толкнуло воспитанника на самоубийство: он вскрыл себе вены прямо в цейхгаузе, где обычно производились порки.
Тогдашняя воспитательная система в значительной мере держалась на телесных наказаниях. Поэтому в корпусе едва ли можно было найти принципиальных противников их применения. Но выделялись несколько извергов, которые особенно охотно пользовались розгами. Их люто ненавидели все воспитанники. Об одном из них — штабс-капитане Фишере — Еленский вспоминал: «Это был человек злой, мстительный, окружавший себя шпионами и льстецами, дерзкий и жестокий с кадетами, хитрый и увертливый перед начальством». Еще в Бресте, то есть тогда, когда в корпусе был Домбровский, воспитанники либо жаловались на Фишера за более чем неблаговидные поступки, либо пытались воздействовать на него злыми шалостями. После переезда корпуса в Москву (1853 г.) помещения воспитанников оказались на втором этаже над квартирами офицеров. Воспользовавшись этим, кадеты днем и ночью устраивали страшный шум над жильем Фишера до тех пор, пока виновников не застали на месте преступления и не выпороли. Позднее — в 1859 году — почти вся подчиненная Фишеру рота взбунтовалась и во время «высочайшего» смотра принесла на него жалобу царю; только после этого начальство признало невозможным держать его среди «воспитателей юношества» и дало указание «без шуму предоставить ему возможность переменить род службы».
Подбор преподавателей и воспитателей в корпусе не был блестящим. Лишь один из тех, кто вел основные предметы, имел законченное университетское образование. По подсчетам Еленского, среди 30 офицеров, имевших воспитательные функции, большинство составляли немцы — уроженцы прибалтийских губерний и лишь 5–6 были русскими, «из числа которых Васильев охотнее говорил по-немецки, нежели по-русски». Но все-таки общий уровень преподавания не был низким, а некоторые учителя, в частности историки Таборовский и Единевский, ботаник Данилов, некоторые другие преподаватели увлекали воспитанников своим предметом и оставили о себе хорошие воспоминания. «Насколько мне помнится, — пишет Еленский, — кадеты, особенно высших классов, читали довольно много, особенно по части истории […]. Доставали Лоренца, Беккера, Маркевича, Бантыш-Каменского на русском языке, Лелевеля, Немцевича и других — на польском. Надзор за чтением был очень слаб, по крайней мере мы его в Бресте не чувствовали».