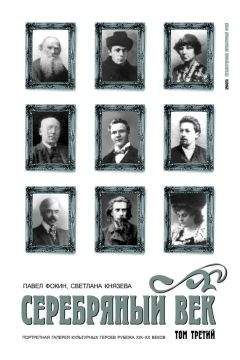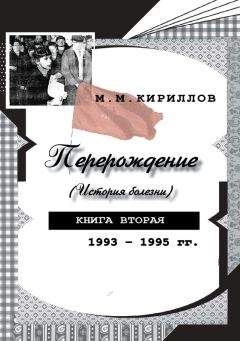Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.
Руки – сильные, горячие, и доказал он, что может владеть не только книжкой или цветком…
Я не соглашусь с впечатлением Марины Цветаевой о „хрупкости“ Лени. Он был высокий, стройный, но отнюдь не хрупкий. Слегка кривлялся? Слегка, да. Глаза – черные в черных ресницах, египетские. Как-то говорил мне, что очень любит „Красное и черное“ Стендаля» (О. Гильдебрандт. Саперный, 10).
«В „Бродячей собаке“, часа в четыре утра, меня познакомили с молодым человеком, высоким, стройным, черноглазым. Точнее – с мальчиком. Леониду Каннегисеру вряд ли было тогда больше семнадцати лет.
Но вид у него был вполне взрослый – уверенные манеры, высокий рост, щегольской фрак. „Поэт Леонид Каннегисер“, – назвал его, рекомендуя, знакомивший нас. Каннегисер улыбнулся.
– Ну, какой там поэт. Я не придаю своим стихам значения.
– Почему же?
– Я знаю, что не добьюсь в поэзии ничего великого, исключительного.
– Ну… Во-первых, „плох тот солдат“… а потом, не всем же быть Дантами. Стать просто хорошим поэтом…
– Ах, нет. Скучно и ни к чему.
– Так что ваша программа – победить или умереть, – пошутил я.
Он улыбнулся одними губами, – глаза смотрели так же серьезно.
– Вроде этого…
– Только поприще для совершения подвига еще не выбрано?
Он снова улыбнулся. На этот раз широкой улыбкой, всем лицом. Семнадцатилетний мальчик сразу проступил сквозь фрак и взрослую манеру держаться.
– Не выбрано!
…Под сводами подвала плавал табачный дым…Мы сидели в углу, пили то черный кофе, то рислинг, то снова кофе. В голове слегка шумело. Я слушал моего нового знакомого. Должно быть, от выпитого вина он разошелся и говорил без конца. Я слушал с сочувственным удивлением: такую страстную романтическую путаницу „о доблести, о подвиге, о славе“ стены „Бродячей Собаки“, вероятно, слышали впервые…
…Когда я попал к Каннегисеру в гости, мне пришлось удивиться снова.
…В обвешенной шелками и уставленной „булями“ гостиной щебетало человек двадцать пять. Лакей разносил чай и изящные сладости, копенгагенские лампы испускали голубоватый свет, и за роялем безголосый соловей петербургских эстетов, Кузмин захлебывался:
…Если бы ты был небесный ангел,
Вместо смокинга носил бы ты орарь…
Половину гостей я знал. Другая – по всему своему виду не оставляла сомнения в том, что она из себя представляет: увлекающиеся Далькрозом девицы, дымящие египетскими папиросами из купленных у Треймана эмалированных мундштуков. Молодые люди с зализанными проборами и в лакированных туфлях, пишущие стихи или сочиняющие сонаты. Общество достаточно определенное и достаточно пустое.
Но мой ночной романтик? При чем он тут?
Он плавал, казалось, как рыба в воде, в этой элегантной гостиной. Костюм его был утрированно-изящен, разговор томно-жеманен. Он ничем – если не считать красоты – не отличался от остальных: эстетический петербургский юноша…
Нам философии не надо,
И глупых ссор.
Пусть будет жизнь одна отрада,
И милый вздор…
Оборачиваясь на публику и поблескивая поощряюще своими странными глазами из-под пенсне, ворковал Кузмин.
Я подошел и взял аплодировавшего Каннегисера за локоть.
– Вот уж не думал, что вам это может нравиться.
– Как? Вам не нравится пение Михаила Алексеевича?
– Мне-то нравится. Но с вашими взглядами на жизнь этот „милый вздор“ как будто не вполне совпадает…
– Напротив, – он насмешливо раскланялся, – вполне совпадает. Не обижайтесь на меня, – тогда, в „Собаке“, я просто вас мистифицировал. Какие там подвиги…
…Он погиб слишком молодым, чтобы дописаться до „своего“. Оставшееся от него – только опыты, пробы пера, предчувствия. Но то, что это „настоящее“, видно по каждой строке.
…Каннегисера очень долго не казнили. Зачем это было нужно – не знаю. Долгие недели такой „жизни“ даже трудно себе представить. А ведь он „прожил“ их и, кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался тем же Ленечкой Каннегисером, двадцатилетним, влюбленным, гордым…» (Г. Иванов. Петербургские зимы).
КАРЕЕВ Николай Иванович
Историк. В 1879–1884 профессор Варшавского, затем Петербургского университетов. С 1910 член-корреспондент Российской академии, с 1929 почетный член АН СССР. Автор исследований «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» (М., 1879), «Очерк истории французских крестьян с древнейшего времени до 1789 года» (М., 1881), «Основные вопросы философии истории» (т. 1–3, М., 1883–1890), «Очерк истории реформационного движения и католической реакции в Польше» (М., 1886), «История Западной Европы в новое время» (т. 1–7, СПб., 1892–1917), «Неизданные документы по истории парижских секций 1790–1795 гг.» (СПб., 1912), «Неизданные протоколы Парижских секций 9 термидора II года» (СПб., 1914) и др. В 1899 был уволен в связи со студенческими волнениями из Петербургского университета, куда вернулся лишь в 1906. Во время революции 1905–1907 вошел в ряды кадетской партии и был избран членом 1-й Государственной думы.
«Профессором Новой истории был Николай Иванович Кареев. Еще до поступления в университет я слушал его лекции. Но в них я не нашел главного: живого общения с минувшим. Меня волновали слова Г. Гейне: „Живя назад жизнью предков, завоевать вечность в царстве прошедшего“. Николай Иванович не умел заставить слушателей жить в царстве прошедшего. Его интересовали обобщенные социологические схемы, интересовали его и конкретные исторические факты, которыми он подкреплял свои схемы. Высокий рост, торжественная поступь, закинутая голова, огромный лоб, окаймленный седыми, но еще густыми, длинными волосами, ниспадавшими на его широкие плечи (настоящая львиная грива), размеренный, спокойный голос, бесстрастный – все это внешнее так подчеркнуто характеризовало „жреца науки“.
И тем не менее в нем не было никакой позы. Он был вполне естествен, он не мог быть другим. Прямой и искренний, безукоризненно честный, он верил в науку как высшее, что создано культурой. Он был и жрецом, и неустанным тружеником. Студенты не любили его лекций. „Водолей“ – это прозвище постоянно сопутствовало имени Кареева. Но в семинарий его вступали охотно, и не только потому, что занятия были обычно посвящены волновавшей всех теме „Великая французская революция“. (Ведь все мы тогда сознавали, что живем „накануне“.)
У Кареева образовалась своя особая школа учеников, преданных ему. „Наказы“ избирателям, требования секций Парижа – документы эпохи такого рода изучались с большой тщательностью и захватывающим интересом. Все это давало прекрасный материал для обобщений социологического характера. Нельзя сказать, что Николай Иванович принадлежал к номотетической школе, что ко всему подходил он исключительно с точки зрения пригодности для обобщений. Он был последовательный эклектик (насколько эклектик может быть последовательным). Кареев твердо верил в возможность объективной исторической истины и непреклонно добивался проверки каждого факта…