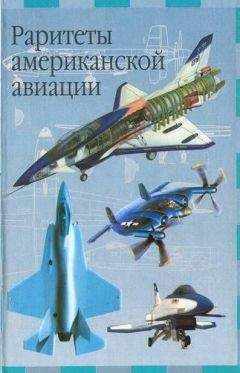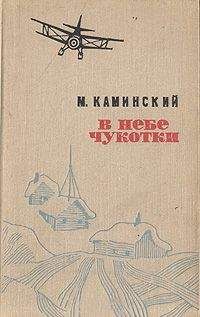Эндель Пусэп - Тревожное небо
Усатый дядя был нам знаком: он время от времени навещал нас и заводил с отцом непонятные для нас споры. Спорили то о коммунистах, то об эсерах и каких-то анархистах. Это был Август Юурикас со всей своей семьей.
— Как вы сюда добрались? — удивился отец. — Ведь никто не мог знать, куда мы направились.
— Знать не мог, а вот следы за вами остались. Мы ведь в тот же вечер вышли, как и вы, но тяжело было идти, — Август показал на узлы, — да еще и ребята.
Совсем в темноте, когда мы уже улеглись, подошел налегке, с двустволкой в руке еще один знакомый нам хуторянин Ян Луйбов, брат расстрелянного карателями Рудольфа.
Последующие дни протекали в заботах и тревогах. Мужчины стучали от зари до зари топорами, валили лесины, строили жилье для себя и стайку для скота. Мама и тетя Мария обрубали сучья, доили коров. Мы, мальчишки, пасли поблизости скотину и таскали сучья, складывали их в кучи, чтобы позже свезти к избушке на топливо.
Невдалеке от нас на той стороне ручейка, в почти непроходимой чаще, строила себе избушку семья Юурикаса, а с версту ниже по ручью, невдалеке от речки Жестык, возводил себе сруб небольшой партизанский отряд. Десятилетия стерли многое, в памяти сохранились лишь две фамилии: Гришин и Чайкин. Возможно, именно они руководили партизанами.
В один из осенних дней исчезли отец, дядя Александр и тетя Мария. Исчезли и лошади. На наши расспросы бабушка и мама отмалчивались. Через несколько дней пропавшие вернулись, ведя под уздцы навьюченных мешками лошадей. Оказалось, что ездили они к тете Анне, сестре отца в Большую Березовку, откуда и привезли несколько мешков картофеля, который они получили за работу на Аннином огороде.
Тетя Анна и ее муж Андрей были в наших глазах богатеями. На их хуторе батрачила и тетя Аделе. Отец был с ними в неладах: каждый раз, при встрече с сестрой, он выходил из себя и начиналась обоюдная ругань. Оканчивались эти баталии обычно тем, что тетя Анна обзывала нас голодранцами, отец же кричал, что они с мужем кулаки и мироеды. Что это значило, я не очень тогда понимал.
Надвигалась осень. С первыми заморозками мы перебрались в избушку. В углу ее высилась большущая, сложенная из камней, печь. В нее был замурован большой котел. В нем варили то суп, то картошку. За печью — двухэтажные нары, занимавшие всю заднюю стенку. На середине земляного пола была врыта толстая чурка, покрытая сверху обтесанной плахой, стол, а вокруг него семь чурок поменьше, для сиденья. Вправо от двери — окно в четыре стекла, снятое с нашей старой бани.
Пока снегу было еще немного, то отец, то дядя, а то и оба вместе время от времени отлучались на день-два. Вместе с ними исчезали и лошади. И каждый раз, возвращаясь, отец и дядя привозили с собой что-нибудь из дому. Так появились бабушкин стул с плетенным из камыша сиденьем, прялки, ведра, туески, а в один из осенних вечеров отец привез с собой даже кипу очищенного льняного волокна, висевшего до того дома на чердаке.
Прялки жужжали теперь каждый вечер. Вместо керосиновой лампы горела березовая лучина, вставленная в раздвоенный сверху железный прут.
В долгие зимние вечера нашлось дело и нам с братом. Нас научили вязать шарфы и рукавицы. Поначалу дело шло крайне 'медленно, но вскоре мы стали настоящими вязальщиками.
Как-то в начале ноября, когда снегу навалило уже по пояс, к нам зашел сосед-партизан, дядя Костя.
— Мы хотим перебраться в Минусинск, к партизанской армии Кравченко. Слышно, что там наши крепко укрепились и бьют белых. Вот я и пришел попрощаться с вами.
В избе воцарилось молчание.
— Нелегко вам будет, — после долгой паузы вымолвил отец. — Это ведь верст двести отсюда. И снегу навалило немало.
— Трудно сидеть без дела, как медведь в берлоге. Да и силу нас мало. Попробуй высунься, сомнут зараз. А там на людяхлегче будет, кругом ведь свои. На миру и смерть красна, — невесело усмехнулся гость. — Попытаемся, — и, вставая с чурбака, протянул отцу руку.
Одет дядя Костя был в овчинный полушубок, на ногах валенки, на голове — беличий треух. Заметив, что у гостя нет ни шарфа, ни рукавиц, тетя Мария порылась на нарах, протянула дяде Косте несколько пар шерстяных рукавиц и носков. Затем, чуть помедлив, подошла к стене и схватила висевшие там на гвоздях связанные нами теплые шарфы:
— Перите. Тругим тафайте.
Смущенно поблагодарив, дядя Костя взял вещи и, пожав всем руки, вышел в ночной мороз.
Поход группы Гришина — Чайкина на соединение с партизанской армией не удался. Изнемогающие, голодные и обмороженные, вернулись партизаны через неделю обратно.
… Зима того памятного всем нам сурового года была снежной и морозной. Гулко стреляли по ночам лопавшиеся от стужи деревья. К рождеству до нас дошли известия, что партизанская армия воюет с беляками уже где-то под Ачинском. А в середине января двадцатого года к нам зашел дядя Костя и, улыбаясь, заявил, что Красная Армия выгнала колчаковцев из Красноярска.
И сразу встал вопрос, как выбраться отсюда: пройти со скотом десятки верст по заваленной метровым снегом тайге?
Но эта непосильная для нас задача разрешилась самым неожиданным образом. В полдень к нашей избушке подъехал обоз. Первым в избу вошел Михкель Клюкман, наш сосед, живший за горой.
— Собирайте быстро свои шмутки — надо засветло обернуться.
Через десяток минут в избушке появились Август и Мартиа Луйбовы, братья Лаурберги, степенно вошли Карл Банник и Иосеп Тамм. Немного позже пришли еще и Михкель Билу, которого мы, дети, почему-то всегда боялись, а вслед за ним Александр Сандра и Юлис Лусис, единственный обладатель трехрядной гармони в деревне. Последним, улыбаясь во весь рот, заявился и отец.
Вскоре, укутанные в овчины и платки, мы под храп заиндевевших лошадей и скрип полозьев двинулись домой.
На наше счастье, нашлись добрые люди, отстоявшие наш хутор от уничтожения.
Началась новая жизнь. Жизнь без царя, без урядника, нигде еще не виданная, никем еще не испытанная. И миллионы людей, от Кушки до Чукотки, от Владивостока до Петрограда начинали учиться жить по-новому, работать по-новому.
Всему этому стали учиться и крестьяне глухих таежных хуторов Выймовки.
Новая жизнь
Откатились далеко на восток разбитые регулярными полками Красной Армии и партизанской армией Кравченко и Щетинкина остатки колчаковцев. Сам «правитель Омский» — адмирал Колчак — доживал свои последние дни в иркутской тюрьме. Лишь в Приморье, на Дальнем Востоке, по-прежнему лютовали остатки белогвардейских банд, поддерживаемые американскими и японскими интервентами.
Опаленные огнем гражданской войны, вступили в новую непривычную жизнь крестьяне на Выймовских хуторах.