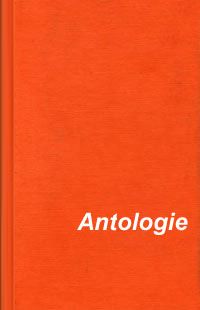Афанасий Коптелов - Возгорится пламя
— Не знаете? Ну, а если вам с вашим умником писарем войти в клетку льва да постыдить его? Или тигра? На выбор.
— Тигра есть зверь.
— И наш классовый враг тоже безжалостен, как хищник. А то, что вы нам здесь рассказали, дорогой мой Оскар Александрович, старая песня. — Владимир Ильич положил руку на плечо Энгберга и заглянул в глаза. — Очень старая. Петая-перепетая. И никому, кроме наших противников, теперь не нужная.
— Есть ещэ една россыйска пословица, — снова вступил в разговор Проминский. — Не давай пальца в уста…
— Верно! — подхватил Ульянов. — Не клади писарю пальца в рот — откусит. С ним надо ухо держать востро. Но мы еще успеем поговорить обо всем. Вы хотели учиться русскому языку. Вот вам учительница. Ты согласна, Надя?
— Да я хоть завтра же!
— Отлично! Ну, а где язык, там и политика! У Надежды Константиновны это получается.
— Володя!
— Я говорю правду. За Невской заставой рабочие хвалили тебя за это, называли своей. Я сам слышал.
После ужина Проминские, поблагодарив за подарки, пригласили всех к себе в гости. Энгберг, увидев корзину с ювелирным инструментом, обрадовался, как ребенок. А потом стал извиняться за давнюю неосмотрительную просьбу: этакую тяжесть пришлось женщинам везти из Питера! Тут же — два пуда! И чем он сможет отплатить за любезность?
— А с близкими людьми счетов не ведут, — ответила Надежда.
Расставались за воротами. Проминский сразу запалил свою трубку. Владимир Ильич, пожимая руки друзьям, сказал:
— Теперь нас четверо! — И, задержав взгляд на лице Энгберга, подчеркнул: — Я надеюсь — четверо единомышленников! Без писаря!
Оскар поставил на землю свою корзину и обеими руками сжал пальцы питерского «Старика».
4
У взбалмошной Дженни хватило бы азарта на десятерых собак. Она кидалась за каждой курицей. Пришлось ее вести возле ноги. Но собачка, не слушаясь ни команд, ни окриков, рвалась вперед, дергала поводок и мешала разговору.
В лесу, свернув с дороги, Владимир отстегнул поводок, и Дженни, широко кидая неуклюжие, длинные лапы, побежала на опушку, где возвышалась одинокая сопочка.
— Вот здесь я, — заговорил Владимир, — впервые встретился с Сосипатычем.
— Я так и думала, что мы идем на Журавлиную горку. Ты писал…
— И верил: поднимемся вместе! Во сне тебя видел здесь.
Владимир схватил Надю за руку, и они, увязая по щиколотки в сыпучем песке, побежали к вершине сопки. Друг друга подзадоривали беззаботным смехом.
Перед самой вершиной она, стройная и легкая на ногу, вырвалась на полшага вперед и так порывисто повернулась, что длинная пушистая коса хлестнула Владимира по плечу. Он, звонко смеясь, подхватил ее под руку, и последние шаги они сделали одновременно.
— Вместе! — воскликнула Надежда, глядя ему в глаза.
— А смотреть, Надюша, лучше в эту сторону.
Снежные шпили, окутанные дымкой, казались фиолетовыми, манили к себе.
— Вот туда бы подняться. — Надя сжала его руку. — Выше орлиного полета!
— Ночевать на берегу горной речки.
— И пить хрустальную воду.
— Боюсь, полиция не позволит нам такого удовольствия. Сочтет, что мы замыслили побег.
Надя окинула глазами болото, расстилавшееся от подножия сопки далеко в сторону Енисея.
— А где журавли? Мне хотелось посмотреть их весеннее… Как это называется?
— Токование. Но это бывает на рассвете.
— А вон, смотри-смотри, — лебеди! Видишь?
— Да. Парочка. Остались на гнездовье.
— Правда? Посмотреть бы птенцов. Наверно, белее снега.
— Сосипатыч говорит — серые. До второго года.
— Все равно — лебедята!
Тут Надя невольно отвлеклась от заманчивой картины.
— Ты, Володя, извини… — Оперлась на его плечо и одним каблуком постучала о другой. — Песок набился.
Он помог ей снять ботинок.
— И другой — тоже, — попросила она.
Но мелкие песчинки цепко пристали к чулкам. Пришлось, чтобы обтереть ноги, спуститься к маленькой полянке, покрытой молодой травой.
Тем временем Дженни вспугнула какую-то пичугу и бросилась вдогонку. Трепыхались ее рыжие уши, качался распушившийся хвост-»перо», краса всех сеттеров. Владимиру едва удалось остановить ее и подозвать к себе.
— Так ты, глупая, всю дичь распугаешь! — Шлепнул собаку по холке, взял на поводок и тоже спустился к зеленой полянке.
Надя уже успела отряхнуть чулки и снова надеть ботинки.
Рядом с нею чернело старое кострище. Сохранился таганок — гибкая березовая палка, воткнутая наклонно в землю. Володя сказал: много раз на этом месте ему доводилось варить обед. С Сосипатычем. Иногда с Проминским.
Сели возле кострища. Дженни легла между ними, свесив за губу розовый, будто обсыпанный росой, язык. Поглаживая атласную, струящуюся под пальцами, шерсть собаки, Надя расспрашивала о селе. Ей хотелось подружиться с местной интеллигенцией. Володя покачал головой:
— Какая тут интеллигенция?! Поп да дьякон. Ну, еще учитель.
— Ты ставишь учителя в один ряд с попом. Не ошибаешься?
— Рад бы ошибиться, но факты — упрямая вещь. Правда, нынче он уже не помогал попу собирать пасхальную ругу.
— Постеснялся ссыльных?
— Возможно. И, к счастью, он женился удачно. В карты уже не дуется. И пьяным его не вижу.
Надя пошевелила старые головешки. Владимир достал перочинный нож, настрогал из сухой палочки щепочек и вмиг разжег костер. Потом сел на свое место, погладил Дженни и продолжал:
— Была у меня одна примечательная встреча с учителем. На святках. В воскресный день возвращаюсь с прогулки. Гляжу — возле моста на обеих сторонах Истока стоят мужики, как две черные тучи. Древняя рать против такой же рати. Только без секир да дреколья. Одна улица против другой. А на льду уже сошлись на кулачки ребятишки. Кое-кому успели разбить носы в кровь.
— Ужасно!
— Самое ужасное ожидалось с минуты на минуту. Мужики с берегов науськивали: «Зю, зю!», «Бей шипче!», «Норови по сопатке!», «Под вздохи лупи!» И сами засучивали рукава. Еще секунда, и бросятся в схватку. Стенка на стенку! Как при Иване Грозном! Века прошли, а дикость осталась. Спрыгнул я с моста на лед и стал расталкивать ребят в разные стороны. Вижу — не удается. Сшибаются снова, как молодые петушки. С обрывов посыпались мужики: «Не трожь!», «Не суйся, политик, не в свое дело, — зубов не досчитаешься».
— И они могли…
— Я в ту минуту думал только о детях… А мужики уже махали кулаками. С обеих сторон — мерзопакостная брань. Вдруг между стенок врезался Стародубцев, стал отталкивать одного влево, другого — вправо: «Не дам ребятишек! Не смейте!» Школьники — к учителю, как цыплята к наседке. Мужики на какую-то секунду опешили. Я стал стыдить, уговаривать. Хожу между стенок. Винным перегаром разит от тех и других. Дышат тяжело, тычут кулаками, а достать противника не могут… Не знаю, чем бы все кончилось, но проезжал мимо старшина, испугался, что могут смять «политика» — отвечай за него. Повернул свою пару коней и въехал между стенок. Расступились. А старшина: «В каталажку захотели? В острог?» Кивнул на меня: «Он все законы знат, а вы: дуроломы…» Погрозил кнутом: «По домам, варначье!» Стали потихоньку расходиться… А после, говорят, многие жалели: зрелища лишились!

![Афанасий Коптелов - Дни и годы[Из книги воспоминаний]](/uploads/posts/books/50636/50636.jpg)