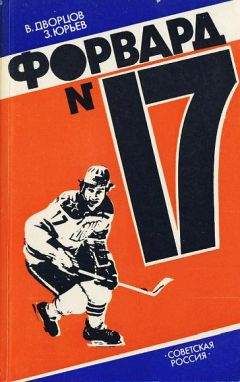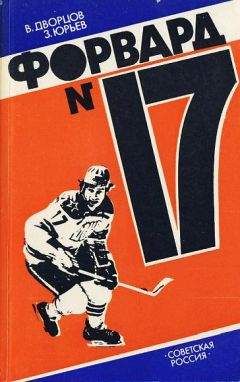Георгий Адамович - Мои встречи с Анной Ахматовой
Был чудесный летний день, один из тех ранних, свежих, прозрачно-ясных летних дней, когда Париж бывает особенно хорош. За Ахматовой мы заехали вместе с моими парижскими друзьями, владеющими автомобилем и заранее радовавшимися встрече и знакомству с ней. Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на рю Бонапарт, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже… сколько раз он тут у меня бывал», — тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение. Оттуда поехали в Булонский лес, где долго сидели на залитой солнцем террасе какого-то кафе, и, наконец, отправились на Монпарнас, завтракать в «Куполь», шумный, переполненный народом ресторан, до войны бывший местом ночных встреч парижской литературной и художественной богемы, в том числе и русской, эмигрантской.
Ахматова села, внимательно оглядела огромный квадратный зал, улыбнулась, вздохнула, и, наконец, сказала:
— Если бы вы знали, что это!.. вот так сидеть… А вокруг все эти люди, эта молодежь… входят, выходят, смеются, веселые, оживленные, беспечные…
Фразу она оборвала, своего «если бы вы знали» не договорила, не объяснила. Но объяснений и не нужно было, и недопустимо было бы на них настаивать. Все было понятно. Вскоре разговор перешел на литературу: иных тем Анна Андреевна, по-видимому, избегала, касаясь их лишь случайно и нехотя. Еще до завтрака она, например, несколько раз произнесла слово Ленинград. Я спросил ее:
— Вы говорите Ленинград, а не Петербург?
Спросил потому, что слышал, будто советская интеллигенция, по крайней мере большая часть ее, предпочитает теперь говорить не Ленинград, а Петербург или иногда по-простонародному — Питер. Ахматова довольно сухо ответила:
— Я говорю Ленинград потому, что город называется Ленинград.
Я почувствовал, что о многом ей говорить трудно и больно, тут же пожалев, что задел один из таких предметов. В ее голосе мне почудился упрек, даже какой-то вызов: «зачем задавать мне такие вопросы?» Не думаю, чтобы я ошибся в своей догадке.
Встретился я с Анной Андреевной во время ее пребывания в Париже, повторяю, три раза. Разговоров было много. Приведу некоторые их обрывки, не стремясь через два года к искусственной, поддельной последовательности и связности. Помню общее содержание бесед, но не помню их порядка.
Меня интересовало отношение Ахматовой к Марине Цветаевой. В далекие петербургские времена она отзывалась о ней холодновато, вызвав даже однажды недовольное восклицание Артура Лурье:
— Вы относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману.
Шуман боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями. Цветаева по отношению к «златоустой Анне всея Руси» была Шуманом. Когда-то Ахматова с удивлением показывала письмо ее из Москвы, еще до личной встречи. Цветаева восхищалась только что прочитанной ею ахматовской «Колыбельной» — «Далеко в лесу огромном…» — и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения — «Я дурная мать» — готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Ранние цветаевские стихи, например, цикл о Москве или к Блоку, представлялись мне замечательными, необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила.
Судя по двум строчкам ее стихотворения 1961 года:
Свежая, темная ветвь бузины.
Словно письмо от Марины
я предполагал, что отношение Анны Андреевны к Цветаевой изменилось. Однако Ахматова очень сдержанно сказала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят… пожалуй, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя не добавила ничего. В дальнейшей беседе я упомянул об «анжамбеманах», которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, — т. е. о переносе логического содержания строки в начало строки следующей. «Да, это можно сделать раз, два, — согласилась Ахматова, — но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».
(Проверяя и пересматривая многолетние свои впечатления, я думаю, что безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой было вызвано не только их словесным, формальным складом. Нет, не по душе ей было, вероятно, другое: демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло, и не для нее одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека редкостно даровитого и редкостно несчастного.)
* * *
О Достоевском.
— Знаете, читать его мне ужасно трудно. В молодости я не прочла ни одного его романа до конца. Не могла. Начинала читать, не сплю, ночь провожу над книгой… И чувствую, что надо бросить, иначе заболею. И действительно я когда-то едва не заболела, читая «Бесы». Не могу выдержать всех этих мучений, этого горя, этих обид. Нечего делать, значит, у меня слабые нервы.
* * *
— Наконец-то вы признались, что не любите Гумилева! А ведь я всегда это знала. Но согласитесь, у него есть прекрасные стихи… «Сумасшедший трамвай», например. Разве не хорошо? «Остановите, вагоновожатый…»
— Это — литература, «литература» в кавычках. Правда, хорошая.
— Литература, литература!.. Но кто-то давно сказал, и правильно сказал… не помню, кто… что у нас в России был только один поэт, которому иногда удавалось быть вне литературы или над литературой, — Лермонтов.
* * *
— Нет, эмигрантской литературы я почти совсем не знаю. До нас все это плохо доходит. Знаю, например, имя Алданова, но не прочла ни одной его строчки. Бунин? Я не люблю его стихов, никогда их не любила. Но есть у него один рассказ, который я прочла еще до революции, очень давно, и никогда его не забуду. Удивительный рассказ… О старом бродяге, пропойце, шулере, который тайком, сам себя стесняясь, приезжает в Москву на свадьбу дочери.
— «Казимир Станиславович»?
— Да, да, «Казимир Станиславович»… вы тоже помните? (Упоминание о «Казимире Станиславовиче» меня поразило. Мне всегда представлялось, что это — одно из самых замечательных и притом сравнительно ранних произведений Бунина гораздо значительнее, острее, глубже, чем «Господин из Сан-Франциско», который, в сущности, есть не что иное, как мастерски написанная вариация на тему «Смерти Ивана Ильича».)
* * *
— Сколько сложилось легенд, в которых нет ни слова правды, все выдумано! Сколько раз я читала и слышала, будто Вячеслав Иванов на каком-то большом собрании поэтов восхитился моей «перчаткой»… знаете, этой «перчаткой с левой руки»?.. подошел ко мне, поздравил, сказал что-то о новой странице в русской поэзии… Никогда ничего подобного не было! Помню, при встрече он действительно сказал мне, что, по его мнению, это стихотворение удачно. Но и только. Без всяких поздравлений и восторгов.