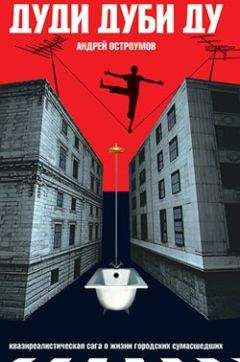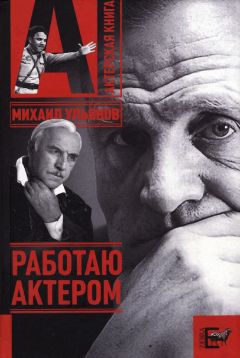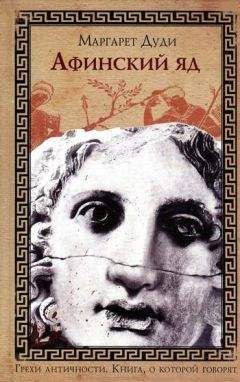Михаил Ульянов - Реальность и мечта
«Песня» у меня не вышла, но мэтр увидел, что я работал как каторжный. А не вышло из-за того, что я был еще зелен для такого произведения. Поэтому Колесников предложил подготовить рассказ «Двадцать шесть и одна», который впоследствии так меня выручил при поступлении в театральное училище. С легкой руки Колесникова я прочел отрывок из гоголевского «Тараса Бульбы» по радио, первый раз ощутив странное чувство одиночества перед микрофоном. А спустя полгода я, чтобы заработать на жизнь, стал диктором на омском радио, где по утрам в шесть часов открывал эфир и закрывал его в два часа ночи. Из-за этого мне не удавалось выспаться, и случилось так, что в одно «прекрасное» утро, оказавшись у микрофона, я не смог сообразить, который час. В студию влетел разъяренный редактор и выключил микрофон. В тот же день мне предложили освободить занимаемое место. Я не особенно расстроился. На учебу и на радио моих сил явно не хватало.
Но брались мы за многое. Так просилась наружу еще мальчишеская, нетронутая вера в себя и в свои силы. Это и есть великий дар жизни. Без такой веры нельзя отправляться в плавание по житейскому морю. С годами, разумеется, понимаешь, сколь ограниченны силы актера, какие существуют незыблемые рамки у собственной природы, через которые не перепрыгнешь. Их надо знать — эти свои возможности, чтобы не надорваться, не упасть под непосильной ношей. И сколько упавших, а иногда так и не поднявшихся я видел и вижу среди тех, кто стремился овладеть актерским мастерством.
Однажды мне поручили роль Кочкарева из «Женитьбы» Гоголя. Это событие тотчас было отмечено в моем дневнике: «Я хочу создать вот такого Кочкарева — бурный ритм жизни, темпераментность и легкость в речи, нахальство, даже наглость. Неистовый черт гоголевской комедии. И обаятельный. Вот если бы такой получился, а шансов мало».
И я неустанно искал в себе темперамент этого безудержного, егозливого человека, его убийственную настойчивость, короче, искал в себе то, чего попросту не было среди моих человеческих качеств. Позднее я понял, что одна из удивительных особенностей актерской профессии заключается в том, что через ту или иную роль ты можешь не только рассказать о том, что тебя волнует, что беспокоит, не только то показать, о чем надо кричать, что надо защищать, против чего протестовать, что восхвалять, воспевать, но еще в ролях можно рассказать о тех чертах характера, о тех человеческих качествах, которых у тебя нет, которых тебе не хватает и которые тебе милы.
В студии было интересно. Каждый день происходило что-то новое. Постоянно хотелось больше узнать, чему-то научиться. Уроки Иловайского, Колесникова, лекции, споры о той или иной работе, участие в спектаклях — жизнь кипела, но иногда и ошпаривала.
Вспоминаю, как я по-настоящему плакал, когда постыдно провалился в роли Шмаги из «Без вины виноватых», первой моей большой роли в Омском театре.
Дважды в жизни я ощущал ужас перед темным залом, когда кажется, что там бездонная пропасть и жуткая тишина, и хочется сбежать: первый раз тогда, играя Шмагу, а второй — во время показа худсовету Вахтанговского театра роли Кирова. Это такое состояние, что кажется, будто тебе ничего не надо, лишь бы уйти куда-нибудь подальше от страшной темноты зрительного зала. Но надо выдавливать текст из пересохшего горла, двигаться по сцене на ватных ногах, надо «работать», не обращая внимания на гулко бухающее сердце.
Моя игра вызвала у Самборской неудержимый приступ хохота. Могу представить, как смешон был я, зелепушный мальчишка, произнося эту фразу: «Ну, и дальнейшее наше существование не обеспечено». Самборская чуть не по полу каталась. Она была полная такая, в летах, как говорят сейчас, дама непреклонного возраста. Не мощная, а статная, величественная, как Екатерина Вторая. Она и вела себя царственно. Но тут величие слетело с нее, и вся ее артистическая плоть сотрясалась от смеха.
После самостоятельных ученических показов Самборская подробно разбирала наши работы. Разумеется, она не приняла моего Шмагу, указав, что я наигрываю и чересчур стараюсь. Потом я привык к более суровым замечаниям, даже стал соглашаться с критической оценкой моих работ. Ведь не бывало такого актера, которому не доставалось бы от зрителей и критиков. Еще не раз я падал в пропасть отчаяния, пока не научился принимать удары судьбы спокойно, хотя не могу сказать, что я стал железобетонным и от меня все отлетает. До сих пор не отлетает — бьет по сердцу, и порой очень чувствительно, но внешне это редко проявляется, я научился властвовать собой. А тогда, страдая от мальчишеского максимализма, я чувствовал полный крах. Надо уходить из театра! И рыдал в уверенности, что нет актера хуже, бездарнее и несчастнее меня и что учебе конец.
Позже Самборская несколько примирила меня с самим собой, высказав примерно следующее. Если ты станешь актером, тебя ждут бессонные ночи, мучительные раздумья, незаслуженные обиды, справедливые упреки, бессилие перед некоторыми ролями, сонм неутоленных желаний, творческих провалов. Неудачи, после которых трудно поднять глаза на товарищей, мучительные часы, когда теряешь веру в свои силы, когда кажется, что пошел не по той жизненной дороге. Вот тогда будут ягодки, а пока это цветочки, да и цветочки-то только-только проклюнувшиеся, еще не распустившиеся. Работай и работай — только в этом спасение от обид и неудач.
И я работал, а попутно заполнял дневник, в котором честно отражал свои сомнения. Странное чувство испытываешь сегодня, перелистывая самодельную тетрадку, исписанную неровным, еще детским почерком, и сознавая, что тебе принадлежат эти простодушные признания, наивные оценки, неловкие обороты речи. В то время, да и потом тоже мучили меня неуверенность в себе, острое сознание своих недостатков. Поверял я эти чувства только дневнику:
«А все-таки ты, Мишка, мало знаешь, ох как мало. Нужно больше заниматься собой, а иначе будет трудно».
«Последние месяцы в душе копошится какой-то червяк, нет веры в себя».
«Неудовлетворен собой от волос до пяток».
«Вот речь тебе, Миша, нужно развивать, и очень тщательно. А то она у тебя сухая, неяркая и много неправильностей в произношении».
«Готовлюсь к экзаменам. Нахожусь в таких сомнениях — как я читаю. Вдруг хуже всех!»
И среди прочего я занес в тетрадку следующее:
«Вчера вечером М. М. Ил о вайе кий сказал: «Искусство — самая жестокая вещь». Да, он прав, и я с ним вполне согласен.
Сколько нужно знать, и иметь, и уметь, чтобы стать хорошим актером. Недоволен собой страшным образом. Работай, Миша, сколько хватит сил, энергии и умения. Какое это трудное, очень трудное и благородное дело — театр!»