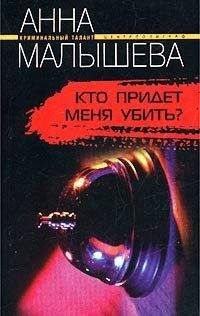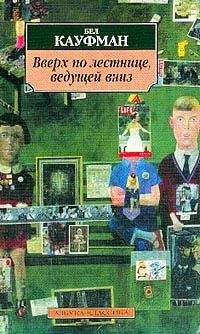Николай Гедда - Дар не дается бесплатно
Тогда я ходил в немецкую школу. Каждое утро нас выстраивали в школьном дворе, где мы поднятой вверх правой рукой должны были приветствовать флаг со свастикой и при этом хором петь фашистский гимн. Однажды, стоя в своем ряду, я случайно захихикал. Тотчас же подошел учитель и крепко схватил меня за коротко стриженные волосы на затылке. Это было так больно, что я уже больше никогда не отваживался хихикать, когда мы приветствовали флаг.
Мать становилась в эти годы все беспокойнее: она чувствовала, что приближается террор. Она мечтала уехать в Швецию. Отцу, как кормильцу семьи, не очень-то хотелось покидать Германию. Здесь он в конце концов нашел постоянную, хорошо оплачиваемую работу, а что ждало его в Швеции, при том что по-шведски он не знал ни слова? Но мать стояла на своем, и я помню, как в один прекрасный день отец сказал: «Забирай Николая и поезжай! Я ненадолго останусь, там посмотрим».
И вот мы с матерью уехали, взяв с собой кое-какие предметы первой необходимости, сколько смогли увезти. Канареек везли в клетке, мать завязала ее черным покрывалом, чтобы они не тревожились. Жена Канарея с нами не ехала. Она как-то села на пол, и отец случайно наступил на нее.
Друзей по лейпцигской школе я больше никогда не видел. Ни один из них не давал о себе знать. Я понимаю почему. Потому что они давно уже все погибли.
Имя «Николай» звучит не очень-то красиво
Приехав в Стокгольм, мы остановились у бабушки Анастасии, на Реншернас Гата, около Софийской церкви. Мы прожили там пару недель, пока мать не подыскала квартиру, которая подходила нам по средствам и показалась матери уютной. В мае месяце 1934 года мы переехали на Грувгатан, 4, у Осэберга. Там было красиво, тихо, множество старых домиков утопало в зелени и цветах.
Отец приехал через пару месяцев, когда военный угар в Германии стал еще явственнее. Он был беженцем, приехал по нансеновскому паспорту, и должно было пройти много лет, прежде чем он стал полноправным шведским гражданином. Поэтому он не мог найти постоянной работы. Безработица была тяжелым испытанием, но со временем он раздобыл себе место регента хора в русской церкви на Биргер Ярлсгатан. Там он мог полностью посвятить себя музыке и пению, организовал хор, и к тому же я был при нем. Но семья не могла существовать на ту скромную сумму, которую отец получал за свою службу. Матери удалось поправить наше материальное состояние: она ловко шила постельное белье и вышивала. Время от времени она работала в конторе.
Квартира на Грувгатан была, по существу, однокомнатной, хоть и довольно большой, с альковом для кровати. В этом алькове я и поселился, чтобы прожить там двадцать два года. Но с особенной радостью я вспоминаю кухню: она была такая милая, уютная, там мать расставила фарфор и немного старого русского серебра, которое она привезла с собой из Лейпцига. Других ценностей у нас в доме не было.
Я думаю, что в первый год жизни в Швеции родители ие знали ни минуты покоя. Материально было очень трудно, и к тому же они беспокоились за меня, за мои школьные дела. Я пошел в третий класс народной школы, потому что в Лейпциге ходил в школу уже два года. Шведский, который я выучил в раннем детстве, был полностью забыт, говорил я теперь только по-русски и по-немецки. Но моя первая учительница, Агнес Густафсон, знала немецкий и помогла мне поправить дело.
Одноклассники ужасно дразнили меня. Им было чудно, что я говорю на другом языке, тем более по-немецки — в те времена, когда на все немецкое смотрели с подозрением, по крайней мере среди рабочего населения нашей части Стокгольма, Сёдера. Они меня звали «немчурой». Иногда мальчишками овладевало какое-то исступление, им приходила в голову мысль отлупить немчуру, и они гонялись за мной по школьному двору. Но я был шустрый и, как правило, удирал от них. Только один раз кто-то из взрослых вступился и прогнал моих мучителей.
Имя Николай для их слуха звучало некрасиво, его быстро превратили в Никодемуса, или попросту Никке. Когда-то давным-давно, в конце сороковых годов, в окне одного из стокгольмских домишек сидел мальчишка и всякий раз, когда я проходил мимо, кричал во всю мочь, так что его голос разносился на весь Осэберг: «Никодемус! Никодемус! Никодемус!» Он кричал это с тех пор, как я появился в Швеции. Я помню, как бормотал про себя: «Черт бы его побрал, хоть бы раз промолчал!»
Я страдал оттого, что в школе были настроены против меня, но прятал эти чувства внутри себя. Ребенком я был всегда замкнут, стеснялся рассказывать родителям, как обстоят дела. Особенно запомнился один случай, когда я побывал в потасовке и на лице у меня красовалась ссадина. Когда мать спросила меня, что же случилось, я выдумал историю, будто уронил книгу на пол в классе, а когда наклонился, чтобы поднять ее, то ударился лицом о крышку парты.
За моей ложью стоял страх — страх, что дома меня тоже отлупят. Необходимость превращать неприятную правду в вынужденную ложь наложила отпечаток на все мое детство, и этот отпечаток чувствуется и поныне. Если я вдруг получал в школе плохие отметки, я живо исправлял минус на плюс. Однажды я из «С» сделал «а», учитель заметил подделку и наказал меня. Но зато я был спасен от необходимости идти с плохой отметкой домой, к родителям.
В детстве я чувствовал себя совершенно одиноким. Я страдал от чего-то, что никогда не умел точно определить. Может быть, это была чрезмерная опека моих родителей. В самый разгар игры могла внезапно появиться мать и забрать меня домой: «Хорошенького понемножку! Тебе пора есть!» Я готов был ее растерзать.
Я всегда был одет не так, как другие мальчики, а это доставляет ребенку массу неприятностей. Одевали меня очень красиво: наверное, большую часть моих нарядов мать шила сама. Помню, я ужасно страдал от зимней шапки, которая досталась от матери,— мне казалось, что я выгляжу в ней по-девчачьи, поэтому, выходя из-под контроля матери, я тотчас же срывал шапку с головы. Больше всего на свете мне хотелось выглядеть как другие, но родители об этом даже не задумывались.
В результате я выглядел довольно несчастным ребенком — об этом рассказала мне моя учительница, когда мы встретились много позже. Но вообще-то я не был таким уж несчастным — вероятно, это славянский темперамент бросал на мое лицо какие-то сумрачные отсветы.
Я помню, что на Грувгатан у нас были очень милые соседи. Мы, дети, жившие вокруг Осэберга, держались компаниями. Была так называемая Грувбакенская команда, к которой принадлежал и я. Осэбергская команда состояла из детей рабочих, и отношения между командами были довольно натянутые, но дрались мы не так уж часто, причем дело кончалось в основном мелкими потасовками или войной в снежки. Но, помню, между нами были отчетливо заметны классовые различия.